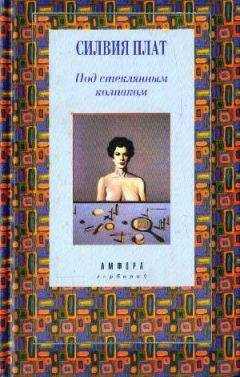— Девчонки, спасибо за грелку. Мне все равно холодно. Но — спасибо. Знаете, у меня была одна подруга, Марина, — она всегда согревала меня. Даже когда я ее не видела. Если бы она была здесь, она бы меня согрела.
Каштановая напряглась чего-то. Спрашивает низким голосом:
— А сейчас она где?
— Уехала в другой город. Бросила меня.
Темно. А? Кто это? Ты, папа? Чемодан мой — зачем это? Два столба-великана и тот, что крупней, размахивает моими трусами.
— Говорю тебе, Веруня: взять и отвезти ее прямо сейчас в детдом. Хватит уже! Испорченный хвост надо откусывать под корень.
Сунули в руки чемодан, выставили и захлопнули. Шумят. А жизнь себе течет. Вытекла вся. Открыли.
— Ладно, заходи. В последний раз прощаю.
Вытекла вся — простили.
Кричит золотоволосая:
— Марина! Майя! Все сюда! Я тоже, блин, как белены объелась! Да Ксена самая прочная в мире девчонка! Я бы овощем давно сделалась с такими предками. А она — деревце! С почками. С клейкими листиками. С птичками на ветках. Мишка, засранец, если ты ее обидишь, — убью! А ну, пустите меня к нему!..
Выбежали. Топочут. Кидают снежки слов. Закидали кого-то:
— Вы посмотрите: налился и отвалился!
Ветер чего-то. Настукивает в балконную жесть как фортепьянная гамма, залаяли с визгом собаки от велика до мала. Накроюсь-ка простыней. Сяду в лотосову позу. А что, деревце я! В другом деревце, что побольше. Это деревце, что побольше — Таня. Я с ней живу и чувствую на плечах ее руки. Кругом ее тонкое дыхание. А обе мы — в Марине! А трое — в Майе. Шум реки. Наше общее деревце гнет и крутит злым ветром: визжат в его звуке собаки, летят вверх тормашками чьи-то ботинки, нежно парят пакеты и что-то еще — чего я не знаю. Лечу я сквозь Таню, сквозь Марину, сквозь Майю, кричу в шум реки, за корой, в чью-то спину-нору: "Миша! Миша!" Вдруг — дверь в ней. Распахнулась. Там стужа — черной пастью. Вместо языка — чемодан. Отвалился он от порыва, скатился к лотосовым стоим стопам. И нет опять двери.
Шумят непонятные люди. Решают, где спать в странном доме. Золотоволосая капитанит:
— Витька с Олегом расстелятся в зале. Майе и Марине лучше быть с Ксеной. А я на кухне подежурю, чтобы жених не пропал.
— Нет-нет, так дело не пойдет.
Вздрогнули они, когда я пристегнула свой голос к их совету в прихожей.
— Ты что, Танька, бездомная? — говорю. — Неужто тебе ночевать негде? Вон у тебя и Олег есть с квартирой, и Мишка с вашей с ним свекровью.
…Тяжко чего-то. Плохо мне в нашем теремочке. Нет в нем Тани, а значит, безрукая я теперь с Мариной и Майей.
…Ну кто там звонит в дверь спозаранку? Знаю кто — отец. Полундра! Прячь сигареты, трусы, стаканы, платки и слезы, понты и улыбки! Сдирай кожу, надевай рожу! Выметай индейцев, выкидывай в окно гостей. Накрывай белу скатерть, затапливай печь из костей… Постой-постой, да это же Машка в глазке!
— Машка ты моя, заходи, будешь первая нога! А предки где, в подъезде?
Достает бутылку с порога улыбается строго:
— Ксена, мама просила передать тебе свяченной воды. Сразу много нельзя. Сделаешь глоток, смочишь голову — отряхнешь. Потом опять. Ой, да чего я тебя учу! Как ты тут? И тут из кухни — топ-топ — свекруха.
— Это что — водка? — Издали спрашивает. Взгляд волкодава.
Маша моя раскраснелась:
— Водка?! Неужели я похожа на пьяницу?
— Ты, девушка, вот что скажи: у этой вот, что стоит наконец, родители любят выпить?
…Слышу голос Марины:
— Смотри, подействовало: Ксена успокоилась, а Мишка, как только окропили, вылетел пулей из спальни и сидит, взъерошенный, на кухне. Размышляет.
Снять кухонные занавески. Выстирать. Выкинуть кассету "Sacried Speerit " с песнями североамериканских индейцев. Туда же ворох записок: "Ксена, я тебя, может, сейчас ударю. Но это не я. Миша", "Все по фиг, понимаешь, все! Ну почему так должно быть? Ксена", "Крепись, в заначке последние граммы. Если ударю, прости. Миша", "На одной стороне окна день, на другой ночь. Ничего не скроешь, занавеска-то прозрачная. Вот и понимай. Ксена", "Прости меня раз и навсегда на всю оставшуюся жизнь. Говорю тебе: не я это. Миша".
Посмотреть, не высохли ли полотенца. Одно, большое, предложить Михаилу и попробовать заманить его в душ.
Набрать тихонько наш номер, послушать мамино: "Але!"
В тот день мы опять не пошли в горы, где надеялись скоротать время на троих с природой, чтобы решить, как быть дальше. Припозднились с пробуждением, приуныли за завтраком, а там Нагвалев ушел в спальню играть на гитаре. У него норма — три часа в день на развитие техники. Чтобы записывать в одиночку магнитоальбомы. Он в песнях был настоящий рокер, только чересчур гладкие они получались, песни, слишком, что ли, перелопаченные трудолюбием. А я-то что? Я после всего, что было, — никто. Я стирку спровоцировала. Так было удобней. Чтобы не выходить к некоторым гостям, которые приходили нас же поздравлять нашими же бутылками, про которые не знали, что они кончились.
Сначала были двое. Профессор и Дьякон. Это пара. Связанная между собой участием в таинствах протестантской секты и верой в перспективу слинять за бугор.
Профессор в самом деле был профессором физики, подвизавшимся от большого ума в священники, а молодой парнишка еще мирской профессией не обзавелся. Он только что вернулся из армии и носил тельняшку под курткой, поэтому его звали по роду духовной службы — Дьяконом. Как называли их батюшки, не знаю, а только Мишка обращался по-простому:
— Ты, Профессор, не сожалей, что тебя наука отринула. А слабо тебе откинуть гордыню и сознаться, что ты дерьмо собачье?
— Не знаю, Миша, когда я об этом думаю, у меня столбняк в голове получается: я действовать не могу.
— Это потому, что гордыня тебя не отпускает, не можешь ты сам себя в ничто поставить. А про столбняк я тебя понимаю, да… А я, знаешь ли, решил полным хиппарем заделаться: ушел с работы, чтобы было время о душе подумать. А кусок хлеба что, на него и в переходе с гитарой можно заработать. Вообще же, я так думаю: если не можешь заниматься тем, что хочешь, достойнее умереть с голоду. Я, Профессор, группу хочу создать. Вот, говорят, Дьякон тоже играет. Пойдешь ко мне басистом, Дьякон?
На что Дьякон, потупившись, отвечает:
— Я вообще-то в церкви играю. А крутую музыку я до армии бацал. Надо тебя послушать сначала. А так, почему бы и нет.
— А я вот дурак, работа — не работа, сижу, технику отрабатываю, прежде чем другим себя предлагать. Жаль, Профессор, твои золотые руки. Накрылась теперь торговля твоими механическими штучками. Дьякон не видел, какой я столик приставлял к стеллажам? Весь из профессорских технофантазий.
— Дай Бог опять что-нибудь придумаем, когда надоест в переходе-то.
— Может, ты думаешь, что я тебя кинул?
— Ну что ты, ты — особый человек, у тебя своя дорога к Богу.
И так мурыжили они, мурыжили. Потом, не выпив, засобирались, и Профессор стал приглашать нас обвенчаться в их церкви. Но мы с Нагвалевым ответили, что в вере своей тверды.
Оставшись один, Мишка затухал. Опускался потерянно на стул, нащупывал стакан с чаем и замерзал взглядом. Потом вдруг тихий, босой, пробирался на кухню — за кипятком. Если чайник долго не закипал, молча ходил взад-вперед где-нибудь у меня за спиной.
После тех гостей он только и сказал: "Ксена, никому не говори, что меня с работы выгнали. Даже девочкам". И примерз к стулу. Но в дверь настойчиво позвонили, и ввалился подвыпивший Вадим. Уж сколько он с нами лобзался, рассказывать не буду. Но когда они с Мишкой остались вдвоем, я услышала, как Вадим бухнул своим баритоном:
— Ты что, Зема, и вправду на Ксене женишься? Она-то баба хорошая, но дурная-дурная. Она предаст, и не заметит, не поймет.
— Оставь меня, Зема, и без тебя тошно.
Всполошившись, Нагвалев выпроводил его под предлогом, будто мы ждем в гости мою свекровь, с которой Вадим не кланялся.
На пороге Вадим вдруг проскулил (он же не знал, что я обладаю недюжинным слухом):
— Не отворачивайся хоть ты от меня, Зема.
— Да будет понты кидать. Зайду на неделе.
Мы словно навели на себя беду-правду. Не успела захлопнуться дверь за Вадимом, как приходит тетя Тоня, с конвертом в сжатом кулаке. И прямиком к стулу, где сын Миша.
— Жениться он задумал, сопля недоразвитая, а? Так женятся люди? Пишут они перед помолвкой письма бывшим женам, просят их вернуться и начать прошлое блядство сначала?
Мишка даже не приподнялся, только скукожился весь. Вид его отодвинул от меня голос свекрови. Я видела: да, стоит тетя Тоня и что-то нам двоим втирает. Но уши словно водой залило, и я все время думала о воде, о том, как ее вывести из ушных раковин. К тому же была стирка и я то и дело убегала в ванную. Обрывки слов тети Тони были как пена на моей одежде.
— Ты зачем Верке письмо написал? Перед днем, когда Ксену привел!? Меня не проведешь, здесь число указано. Пусть она слышит, какой у нее муженек, пусть все знает.