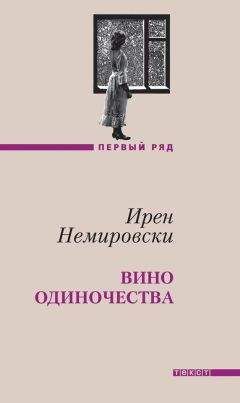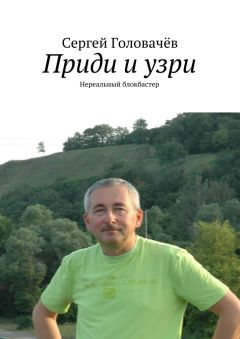На ум вдруг пришел Петр, который также захотел идти по воде и шел, пока смотрел на Иисуса. А когда посмотрел вниз, начал тонуть.
Я смотрела на глаза в оконном стекле. Может, поговорить с ними? Но что сказать? Знаю ли я, зачем сюда приехала?
Свет факела в ночной тьме, на снегу, сто пятьдесят лет тому назад, в тридцати милях отсюда. Из-за этого я приехала? Чужое дыхание у самого уха, низкие возбужденные голоса на непонятном языке. Утром они приезжают и убивают, врываются в дом, бьют окна и хлещут березовой хворостиной. Хлыст свистит в воздухе и попадает в цель.
Было так тихо, я взглянула на бумаги и записи, разложенные на столе. А потом вновь на лицо, отражавшееся в стекле.
Вспомнила то, что написала в заявке на стипендию: восстание вскрывает многоплановость конфликта и язык — его сердцевина. Язык Библии стал вместилищем различных культур и языковых традиций, отразил меняющееся отношение к власти.
На первый взгляд речь шла о конфликте в обществе и о власти. Но разве потому я им заинтересовалась? Я ведь чувствовала, что эти события касаются и меня, что это и мой конфликт, причем я не примыкаю ни к одной из сторон, а стою посередине. Почему? Неужели только из-за культурных традиций?
Очевидно, на самом деле речь шла о чем-то другом, связанном с языком. Вернее, не с языком как таковым, а с чем-то внутри него, о самом главном. Том, вокруг чего строится весь текст Библии.
Невиновных не было. Они убивали ножом и топором и подожгли дом. Не было безгрешных. Ни одна из сторон не была святой и невинной. Не было правых. А то, что должно было быть открытым и общим достоянием, было замарано и искажено.
Но было и еще кое-что. Что-то в самом восстании, дикое и неуправляемое, упертость людей, нутром чувствовавших, что где-то должна быть истина. Это чувство не давало им покоя. Они должны были добраться до нее, вырезать и взять в руки, как они это делали, когда забивали северных оленей, распарывали брюхо и доставали живое, блестящее и липкое сердце.
Они хотели добиться чего-то истинного, верного, без обмана.
И получить признание от пастора, ленсмана и лавочника, хотели подняться на вершину горы и окинуть взглядом то, что было с другой стороны, землю обетованную, посмотреть, какова она.
Убедиться в том, что им рассказывали: что на той стороне озеро и наискосок протекает ручей, растет вереск и кустарник, а налево — болото.
Что все так и есть. И так и будет постоянно и неизменно.
Однако нож прорвал рубашку и кожу и вонзился в плоть.
Плоть — это только плоть.
Пролилась кровь, а кровь есть кровь.
Адом, который они подожгли, сгорел дотла.
И зачем тогда нужен язык? Какой толк от слов? Помощи ждать неоткуда. Нет ни стен, ни границы, ничего незыблемого.
Я услышала глухой стук на лестнице, звук открывающейся и закрывающейся двери. Машинально посмотрела на часы. Был четвертый час. Через пять часов Майе на работу. У меня свободный день, так как накануне была обедня. Может быть, у Майи появился парень и она ночевала у него.
Несколько дней тому назад я была на острове. Все дома там расположились во внутренней части, которая смотрит на город. Дул ветер, я прошла между домами, заборов нигде не было, только местами снег и мерзлая земля, сухая трава и вереск. Я вышла на равнину за домами, обращенную к морю.
Ветер был такой сильный, что охватывал меня целиком, как бы держа в руке. Такое же чувство, когда крестишь маленького новорожденного ребеночка. Я обхватываю его всего рукой и чувствую, какая она большая и сильная — рука. Головка целиком помещается на ладони. И вот так же меня держал ветер, большой сильной рукой, в которой я умещалась целиком.
Я подошла к самому краю обрыва, внизу были острые камни, скалы, пена и черная вода, я стояла и чувствовала, как чья-то рука держит меня.
Я могла бы прислониться к ней и не упала бы.
Но вдруг я подумала: а что, если ветер одним рывком переменится, тогда меня сдует вниз, я не устою. Не за что будет ухватиться. Та же самая рука, которая прижимает меня к берегу, может скинуть меня вниз на скалы.
Я повернулась и побежала назад.
Всего несколько минут я продержалась на ветру, не думая ни о чем, просто стояла и отдыхала.
Потом спустилась обратно к домам, вернулась в город, показались рыбная фабрика и церковь вдалеке.
Я заснула, сидя за письменным столом, и проспала несколько часов. Когда проснулась, над фьордом появилась слабая полоска света, над линией горизонта по другую сторону фьорда. Я вышла на кухню, вставила фильтр в кофеварку и обнаружила, что кофе кончился.
Я спустилась на первый этаж, чтобы одолжить кофе у Нанны. Постучала в дверь. Ответа не было. Дверь была не заперта, я вошла в темный коридор и оттуда на кухню.
Там сидела Майя. Совсем тихо, у окна. Сидела и смотрела на улицу.
— Привет, — крикнула я.
Она не обернулась.
— Я только возьму немного кофе, — сказала я и открыла буфет. Взяла чашку, насыпала немного кофе и повернулась, чтобы выйти.
Взглянула на нее: она казалась застывшей. Может, позвать ее ко мне завтракать? Но, честно, мне именно сейчас не хотелось ни с кем разговаривать, хотелось только тихо посидеть и выпить горячего кофе, а потом залезть обратно в кровать и еще немного поспать. Хотя я знала, что не получится, даже не стоит и пытаться. Но разговаривать ни с кем не хотелось, это уж точно. Я сделала шаг к двери. Майя точно оцепенела, совсем как Кристиана тогда в церкви.
— Майя, — сказала я, — с тобой все в порядке?
Она не отвечала. Я не знала, что делать — просто уйти или же подойти к ней и сесть рядом.
— Я пойду наверх, — сказала я, — ведь ты идешь на работу, не так ли?
Она повернула голову. Совсем медленно, как будто была где-то далеко. Ничего не сказала. Казалось, будто она смотрела, но ничего не видела, во взгляде не было ни вопроса, ни ответа. Он был совсем плоский.
Я подождала немного и вышла.
Неужели она всю ночь так просидела — подумала я, поднимаясь по лестнице, ступеньки скрипели, и скрип отдавался в моей голове. Нет, у меня не было сейчас сил ни с кем разговаривать. Наверное, она как вернулась, так и сидела за столом. В коридоре было холодно. Я открыла дверь в свою маленькую кухню, там было так тепло, я закрыла дверь и как следует прижала ее, чтобы она не открылась. Подошла к кофеварке, включила ее и смолола кофе.
Я стояла у окна, держа в руке чашку кофе, и смотрела на улицу. Кое-кто уже спешил на работу. Видимо, был очень сильный ветер, было видно, как люди скрючивались, как будто старались обвиться вокруг себя, как бы складывались.
Я вспомнила свои пробежки по утрам в лесу за городом. Я выходила обычно рано, пока было тихо, и бежала от Лессингвег по Вальдхойзерштрассе. Навстречу уже шли люди по дороге на работу, в город. Я бежала по асфальтовым прогулочным дорожкам под большими развесистыми лиственными деревьями. До Риттвег и потом вверх по горке.
Вспомнила тот раз, когда мы бежали вместе с Кристианой. Я не стремилась к этому, я любила бегать одна, но она попросила, и я согласилась. Она зашла за мной утром в субботу в своем черном костюме, в розовых гетрах и маленьком розовом шарфике в белый горошек. «Ты что, и впрямь так побежишь?» Кристиана закружилась передо мной, плюхнулась на попу, я смеюсь, мы обе смеемся и бежим, совсем по другой дороге, чем обычно, гораздо дальше.
Именно в тот раз она привела меня к Хэртлесбергу, через Хойберг и Хагельлох. Светило солнце, мы бежали, потом шли и разговаривали. И смеялись, Кристиана выделывала такие фортели, что я не могла удержаться от смеха, мы передразнивали людей, обсуждали то, что она пыталась передать своими движениями, так смешно, пластично, точно и ясно.
Она водила меня к Хэртлесбергу только в тот раз, один-единственный. Солнце освещало небольшую долину и дорогу вниз между голыми деревьями. Может, она была для нее сценой, а ветви — перегородками? Или она не планировала ничего заранее, а просто привела меня в лес, куда обычно ходила? Может, и так, ибо она все здесь хорошо знала и вела меня не по главной прогулочной дороге, а по маленьким боковым тропинкам.
А может, она привела меня туда, чтобы я была своего рода свидетелем того, что должно было там произойти, что она предвидела, но еще не знала наверняка? Или знала? Тогда почему же ничего не сказала? Почему она никогда не говорила о том, что с ней происходит? Ничего я о ней не знала, как выясняется. Она казалась такой сильной, такой веселой. Возможно, чувственной, но и очень сильной. А ее удивительный смех, в котором я ничего не понимала, был таким легким и внезапным. Когда она смеялась, я теряла уверенность в себе, и у меня кружилась голова. А может, это она теряла уверенность, и у нее кружилась голова, а я ничего не понимала.
О, если бы я только знала, я бы смотрела за ней как за маленьким щеночком, ухаживала за ней и была бы с ней вместе круглые сутки, так чтобы она не оставалась одна, гладила бы ее и кормила.