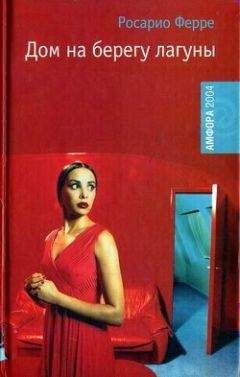Но Исабель не только пошла на грабеж исторического материала; она исказила, причем самым бесстыдным образом, факты из жизни Павла. Ее описание внешнего вида архитектора, похожего на Дракулу, который носился по городу в развевающемся на ветру плаще из черного шелка, заставило Кинтина смеяться до слез. Павел, конечно, был каналья, но каналья утонченная. Кинтин много раз видел его фотографии, на которых он был запечатлен в прекрасно сшитых брюках из тонкого льна и в белых штиблетах из кожи антилопы.
Исабель допустила несколько непростительных исторических ошибок. Некоторые из них были просто глупые; например, она написала, что в 1917 году в Сан-Хуане продавали «горячие собаки» и что Буэнавентура купил одну, когда сошел на берег с корабля «Святая Дева Ковадонгская». Кинтин снова рассмеялся. Конечно, трудно сказать с точностью, когда в Пуэрто-Рико появились хот-доги, но он был абсолютно уверен, что до Второй мировой войны их еще не было.
Более серьезной ошибкой было утверждать, что немецкие субмарины осадили город во время Первой мировой войны, когда на самом деле это произошло во время Второй мировой войны. Планы фон Тирпица по захвату Пуэрто-Рико никогда не были осуществлены, доклад адмирала по этому вопросу пылился в архивах кайзера Вильгельма II. Немецкие подводные лодки появились в Карибском море только в 1942 году. Но Исабель понадобилось изобрести осаду Пуэрто-Рико в 1918 году, поскольку немецкая блокада служила фоном для развития образа Буэнавентуры как пособника фашистов. Она исказила, причем сознательно, исторические факты, чтобы сделать повествование более увлекательным.
Кинтину не было стыдно читать рукопись жены, которую она прятала; он был убежден, что это его долг. Исабель раскрылась ему с неизвестной стороны, и, кроме того, он переосмысливал историю своей семьи так, как никогда не делал раньше. Была там и правда; Ребека порой чувствовала себя несчастной в браке и, может быть, была бы счастливее, выйди она замуж за такого человека, как Павел. Но делать из этого вывод, что между ними был адюльтер, – нелепость. Это просто фарс, злобная клевета.
Это верно, что Буэнавентура отличался необузданным нравом, присущим всем Мендисабалям, и Кинтину в детстве от него доставалось. Но он был великодушным и ответственным отцом. Со временем Кинтин стал лучше понимать его, а сейчас, когда стал зрелым человеком, то научился ценить его добродетели. Его мать и его отец были и счастливы, и несчастливы в браке, как это бывает со всеми на свете.
Дойдя до того места в главе восьмой, где описывался танец Саломеи, Кинтин похолодел. Ребека, танцующая обнаженной на террасе, чтобы развлечь своих друзей, – нечто, чему он никогда не был свидетелем в детстве. Читать такое было страшно огорчительно. Его мать была утонченной натурой, как духовно, так и физически, но она не была аморальной. Ребека была очень умна; она обладала поэтическим талантом, и ее литературный салон приобрел большую известность в Сан-Хуане в двадцатые и тридцатые годы. Но когда родился Кинтин, Ребека оставила творчество и всю себя посвятила сыну. Никогда такого не было, чтобы она отсылала его в нижний этаж, как утверждала Исабель. Наверняка это Петра распустила подобные сплетни, потому что терпеть не могла Ребеку.
С момента своего появления в доме на берегу лагуны Петра возымела необъяснимую власть над Буэнавентурой. Отец Кинтина был испанцем, и все эти священные ритуалы казались ему экзотикой. Он с удовольствием слушал, когда Петра рассказывала ему о колдовских чарах, но, сидя с приятелями в баре «Испанского казино», смеялся над ее знахарством. Однако постепенно колдовские чары опутали Буэнавентуру, будто невидимая сеть. Ребека чувствовала это и много раз пыталась освободиться от Петры, но тщетно. Петра окопалась в нижнем этаже дома, похожая на чудовищную паучиху, и там ткала свою паутину из злых слухов, которой опутала всю семью. Кинтин закончил чтение в четыре утра. Он сложил страницы, положил их в папку и перевязал пурпурной ленточкой. Потом снова спрятал рукопись за словари. Кинтин не просто чувствовал раздражение – он был глубоко задет. Он решил ничего не говорить Исабель. Однако теперь он будет внимательно, очень внимательно следить за тем, чем она занимается.
Часть третья
Семейные корни
9. Обещание Кармиты Монфорт
Когда мы были женихом и невестой, Кинтин часто навещал меня в нашем доме в Понсе, останавливаясь в мотеле «Техас» на окраине городка. Мотель снабжал горючим моторные лодки, и, кроме того, в его распоряжении было несколько меблированных комнат, где заезжие торговцы могли переночевать. «Техас» был первой современной заправкой, и я хорошо помню, как его неоновая красная звезда непрерывно горела всю ночь. Это была первая неоновая реклама, которую мы видели у себя в городке, и мы были столь простодушны в то время, что приняли сей факт за торжество прогресса в наших местах.
Денег у Кинтина тогда не было, но мы были счастливы и с нетерпением ждали дня нашей свадьбы. Ждать пришлось довольно долго: Буэнавентура был против нашего брака, во всяком случае, до тех пор, пока Кинтин не «поднимется на ноги» настолько, чтобы стать независимым от отца.
В то лето у нас обоих были каникулы, мы оба заканчивали учебные заведения в Соединенных Штатах, каждый свое. Мы тогда часто спали обнаженными, поскольку из ближайших зарослей сахарного тростника доносился теплый ветер, напоенный тропическими ароматами, а кондиционеров еще не было. Мне исполнилось двадцать один, и я училась на четвертом курсе Вассар-колледжа. Кинтину было двадцать четыре, и он заканчивал Колумбийский университет. На время каникул Буэнавентура определил его в магазин, где он должен был грузить ящики со скумбрией. Кинтин работал по двенадцать часов в день. Только так он мог заработать денег на автобусный билет и еще три доллара на мотель, чтобы в конце недели поехать в Понсе.
В городке заняться было особенно нечем. По вечерам мы ходили в кино посмотреть какой-нибудь фильм с Эвой Гарднер или Роком Хадсоном или гуляли на площади. Мы расставались рано утром у кованых железных ворот. Но около часа дня, когда все в доме спали, я босиком выходила из дома и спускалась в сад. Я сбрасывала рубашку и голышом пробиралась в кустарник патио. Там, спрятавшись среди индейского лавра и клещевины, меня ждал Кинтин.
Прошло уже более тридцати лет, а я до сих пор живо помню те дни. Мы, как безумные, занимались любовью на траве в окружении кротких домашних собак, они взирали на нас с любопытством и весело виляли хвостами, будто речь шла о какой-то игре. Мы были такие юные, почти дети!
Осенью, сразу после возвращения в Соединенные Штаты, мы виделись в Нью-Йорке каждое воскресенье. Мы встречались в отеле «Рузвельт», который тогда стал уже приходить в упадок. В коридорах темно, система освещения была древней: по потолку во всю длину коридора шла труба, а на ней крепились светильники в виде бабочек. Стены – из искусственного мрамора, а газовые светильники покрыты пылью. Отель «Рузвельт» соединялся с Центральным вокзалом подземным переходом. Это было удобно по двум причинам: зимой не надо было выходить на улицу в непогоду – я ненавидела холод, – и, кроме того, мало кто пользовался этим переходом, так что снижалась вероятность столкнуться с кем-либо из знакомых. В то время запятнать свою репутацию было самым большим грехом для девушки из хорошей семьи, и я прекрасно помню извечный страх натолкнуться на кого-нибудь из знакомых в вестибюле отеля. Переход отеля «Рузвельт» был идеальным путем к отступлению: можно было приехать и уехать незамеченными.
Как только я выходила из колледжа, я думала только об одном – как можно скорее оказаться в объятиях Кинтина. Поезд привозил меня на Центральный вокзал. Я бегом преодолевала подземный переход отеля, поднималась на лифте и устремлялась в конец коридора – в заветную комнату с кроватью, где меня ждал Кинтин. Это было все равно что оказаться в конце пути, где желание и расстояние сходились в одной точке. Моя мать и мой отец, Ребека и Буэнавентура – все уходило сквозь стены безымянной комнаты, скрывалось где-то в тумане времени. На этом предбрачном ложе, вдали от недремлющего ока родственников и знакомых, мы потеряли невинность и обрели сознание правоты. Мы погружались в неведомое сладострастие, в очистительный для обоих жар любви.
Узнав Кинтина, я словно кружилась в нескончаемом вихре, который увлекал меня в глубину моей собственной души. Я была безумно влюблена в него и думала только о встречах в саду нашего дома или в отеле Нью-Йорка. Могучее притяжение, которое я чувствовала к своему жениху, не уменьшилось ни после печального эпизода с несчастным певцом, покончившим с собой, ни даже после нескольких лет совместной жизни.
Кинтин был очень хорош собой. Он унаследовал испанскую стать Буэнавентуры: его широченные плечи, шею, как у молодого бычка, и его агатовые глаза. Единственное, что мне в нем не нравилось, – его темперамент холерика. Когда я чувствовала в нем приближение приступа гнева, то опускала голову и отводила глаза. Это был наш тайный сигнал. Кинтин много страдал в детстве от необузданного нрава своего отца, и наш договор был попыткой избежать таких же проявлений у него самого. Какое-то время это помогало: Кинтину становилось смешно, когда он видел мою пантомиму, и гнев отступал. И это нас вновь соединяло.