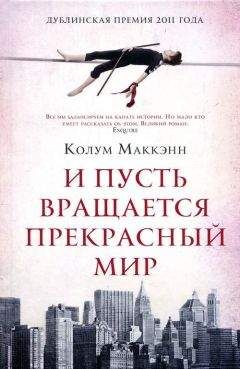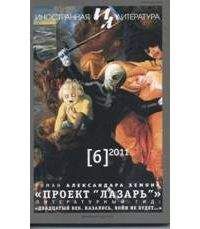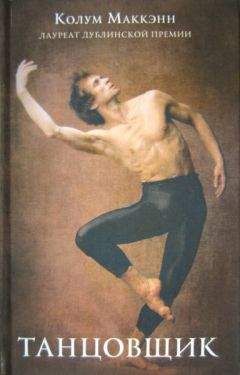— Но ты на своем, верно?
Отвернувшись, она негромко свистнула детям, и те поплелись к нам по песку. Загорелые и гибкие. Притянув к себе Элиану, Аделита тихонько сдула песок у дочери с виска. В обеих мне почему-то виделся Корриган. Будто мой брат уже сумел пропитать их. Хакобо устроился у матери на коленях. Аделита пощипывала зубами его ухо, и мальчик пищал от восторга.
Она отгородилась от мира, окружив себя детьми, и я задумался, не так ли вышло и с Корриганом? Допустим, она подманила моего брата поближе, чтобы затем отстраниться? Так много собрала вокруг себя, что стало невмоготу? На миг я возненавидел ее — заодно со всеми сложностями, которые эта женщина принесла в жизнь моего брата, — и ощутил странную приязнь к проституткам, которые утащили его прочь, в какой-то участок, к самому отребью, в какую-то жуткую камеру с железными решетками, черствым хлебом и грязной парашей. Может, он даже сидит с ними в одной камере. Может, дал себя арестовать, чтоб оказаться поближе к своим подопечным. Меня бы не удивило.
Он подобрался к первопричине, и теперь я ухватил самую суть брата: он — полоска света под чужой дверью, но для него дверь закрыта. Наружу просачиваются лишь его куски, фрагменты, и в итоге Корриган сам возводит баррикаду за дверью, сквозь которую пробивался. Может, виноват здесь только он один. Может, он рад осложнениям и нагородил их исключительно для того, чтоб не исчезали.
Теперь я понял, что все кончится плохо — для нее и Корригана, для этих детей. Кто-то окажется в стороне. И все же чего б им не влюбиться друг в друга, пусть ненадолго? Почему Корриган не научится жить в теле, причиняющем столько боли, хоть изредка делая ему уступки? Почему этот его Бог не желает ослабить хватку, хоть на мгновение? Жизнь была для моего брата камерой пыток: ему приходилось беспокоиться о благополучии мира и разбираться с тонкостями, а на самом деле хотелось только одного — быть как все и заниматься простыми вещами.
Но ничто не казалось простым, упрощению не поддавалось. Бедность, целомудрие, смирение — всю жизнь Корриган хранил им верность, но оказался безоружен, когда те обернулись против него.
Аделита выпутала резинку из волос дочери. Хлопнула девочку по попке, отправила бегать по пляжу. Вдали разбивались волны.
— А чем занимался твой муж? — спросил я.
— Служил в армии.
— Скучаешь?
Она уставилась на меня.
— Время не лечит всего, — ответила наконец, отводя взгляд на полоску пляжа, — но многое лечит. Теперь я живу здесь. Тут мой дом. Не хочу возвращаться. Если ты об этом, я не вернусь.
В общем, раскрыть тайну, частью которой была Аделита, мне так и не удалось, а ее взгляд удержал от дальнейших расспросов. Корриган теперь принадлежал ей. Она все уже сказала. И то правда, возврата уже не будет. Мне вспомнилось, как еще мальчишкой, когда все было чисто и определенно, мой брат бродил по полоске прибоя в Дублине, восторгаясь шероховатостью ракушки, ревом низко летящего самолета или церковными карнизами — всем тем вокруг него, что казалось незыблемым, нацарапанным внутри сигаретной пачки.
* * *
Рассказывая нам с братом сказки, мама любила предварять их сложным росчерком: «Однажды, давным-давно — настолько давно, что меня там и быть не могло, а если б я была там, то меня бы не было здесь, да только я здесь, а не там, но все равно расскажу вам историю о том, что случилось однажды, давным-давно…» — и дальше следовала сказка ее собственного сочинения, легенда, в которой мы с братом отправлялись в удивительные края, а проснувшись поутру, уже не знали, пригрезились нам части одного сна, мы видели одинаковый сон или же в каком-то нездешнем мире наши сны переплелись и поменялись местами. Знай я об аварии Корригана, согласился бы на это не раздумывая: Брат, научи меня жить.
Все мы слыхали о чем-то подобном. Любовное письмо проскальзывает в щель почтового ящика в тот миг, когда чашка еще не долетела до пола. Гитарная струна щелкает, когда последний вздох еще не покинул губ. Сдается мне, дело тут не в Божьем промысле и не в людской сентиментальности. Возможно, просто случай. А совпадение, может статься, — лишь очередной способ убедить себя самих в собственной значимости.
Так или иначе, факт останется фактом, и ничего тут не сделаешь: Корриган был за рулем фургона, весь день проведя в Могильниках и судах Нижнего Манхэттена, а затем поехал на север по шоссе Рузвельта, и Джаззлин сидела рядом, желтые туфли, неоновый купальник, на шее тугая ленточка, а Тилли осталась в камере, взяла на себя всю вину за кражу, и мой брат вез Джаззлин домой к детям, ведь дети поважнее всех брелоков, всех сальто в воздухе, и они мчались вдоль Ист-Ривер, между зданиями и тенями, и тут Корриган решил перейти на соседнюю полосу; может, включил поворотник, а может, и нет; может, у него закружилась голова, или он устал, или замотался; может, он принял таблетку и реакция притупилась или зрение затуманилось; может, недожал тормоз или, наоборот, вдавил педаль слишком резко; может, тихонько мурлыкал песенку, кто знает; но, говорят, его задела сзади шикарная тачка, антикварный раритет какой-то, водителя никто не разглядел, золоченый автомобиль, каждый день выезжающий навстречу аплодисментам, стукнул по бамперу фургона, слегка подпихнул его, но Корригана бросило через три полосы, словно в танце, бурым вихрем, на миг даже элегантным отчасти, — и я теперь представляю, как Корриган стискивал руль, его страх, его округлившиеся кроткие глаза, и Джаззлин рядом кричала, тело напряжено, шея одеревенела, перед нею промелькнула вся ее короткая порочная жизнь, и тут фургон занесло на сухом асфальте, он врезался сперва в легковушку, потом в почтовый пикап, а затем на полном ходу — в боковое ограждение трассы, и Джаззлин головой вперед вылетела сквозь лобовое стекло, ремня-то нет, тело уже на полпути к небесам, а рулевое колесо отбросило Корригана назад, сломало грудину, голова отскочила от стекла в паутине трещин, в крови, а потом тело швырнуло на место с такой силой, что разлетелся металлический каркас сиденья, тысяча фунтов стремительной стали, фургон еще шел юзом от одной обочины к другой, а тело Джаззлин, едва одетое, описало в воздухе дугу со скоростью пятьдесят-шестьдесят миль в час, расшиблось о дорожное ограждение и замерло смятой грудой, одна нога нацелена вверх, словно делая шаг, точнее, словно Джаззлин хотела шагнуть в небо, а потом в фургоне нашли только одну ее вещь, желтую туфлю на тонком каблуке рядом с Библией, косо выпавшей из бардачка, одна на другой и обе в осколках, а Корригана, еще дышавшего, помотало туда-сюда, кинуло вбок, и в итоге он оказался втиснут в темный колодец между педалями газа и тормоза, а мотор ревел, словно одновременно хотел разогнаться и заглохнуть: вес Корригана на обеих педалях.
Сначала решили, что он умер, и погрузили в мясной фургон рядом с Джаззлин. Кровавый кашель озадачил санитара, и тогда Корригана отправили в Ист-Сайдскую больницу.
Кто знает, где мы были, ехали назад, в другой части города, по пандусу автомагистрали, в безнадежной пробке, у будки дорожного сбора, какая разница? Пузырек крови на губах брата. Мы ехали, тихо напевая, а дети дремали на задних сиденьях. Альби решил задачку. Обоюдный шах и мат. Брата заправили в «скорую помощь». Мы ничем не могли бы помочь. Никакие слова его бы не вернули. То было лето сирен. У Корра — еще одна. Вертелись мигалки. Его отвезли в больницу «Метрополитэн», в неотложку. Бегом по бледно-зеленым коридорам. Кровавые следы по полу. Две тонкие линии от задних колес каталки. Вокруг хаос. Я высадил Аделиту с детьми у дощатого домишки, где они жили. Уходя, она оглянулась, помахала мне рукой. Улыбнулась. Она была его. Она ему подойдет. Нормальная она. С ней он отыщет своего Бога. Брата вкатили в «отстойник». Крики и шепот. Кислородная маска на лице. Развороченная грудь. Коллапс легкого. Дюймовые трубки, чтобы он мог дышать. Медсестра с манжетой тонометра. Сидя за рулем фургона, я смотрел, как в доме Аделиты зажигают свет. Разглядывал ее силуэт на занавесках, пока она не задернула плотные шторы. Только затем включил зажигание. Врачи уложили брата на растяжку. Искусственное легкое у кровати. Пол такой липкий от крови, что интернам пришлось ноги вытирать.
Не подозревая ни о чем, я ехал дальше. Улицы Бронкса в выбоинах. Оранжевый и серый — цвета пожарищ. На перекрестках танцевала ребятня. Тела в непрерывном движении. Подростки будто узнали о себе что-то совершенно новое и тряслись теперь в экстазе почти религиозном. Пока делали рентген, палату выскоблили. Я свернул под мост, где провел почти все лето. Проституток в тот вечер было всего ничего — лишь те, что не попали под облаву. Из-под опор выпорхнули ласточки, ножницами распороли воздух. Засеяли небо. Никто меня не окликнул. Мой брат в больнице «Метрополитэн», еще дышит. Мне бы спешить на работу в Куинс, но я перешел через улицу. Не подозревая ни о чем. Кровь набухает в легких. К крохотному бару. Орал музыкальный автомат. «Фор топе». Внутривенные катетеры. «Марта и Ванделлас». Кислородные маски. Джими Хендрикс.[47] Врачи без перчаток. Его стабилизировали. Впрыснули морфий. Прямо внутримышечно. Не поняли, что за синяки на сгибе локтя. Решили сначала, что обычный наркоша. Кто-то сказал, его привезли с мертвой шлюхой. В кармане брюк наткнулись на образок. Я вышел из бара, нетвердой поступью пересек ночной бульвар.