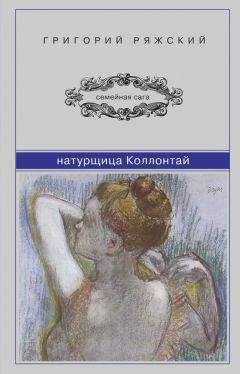И переместилась. Он знал, что я девственница, не мог про меня такое не знать. Мама не знала, а он знал. Это потом он мне уже про меня же и рассказал, когда всё у нас с ним произошло, к общему счастью и наслажденью друг другом. Говорит, мужчина всегда чувствует раннюю женщину. Не ту, которая рано встаёт на работу, учёбу или страдает бессонницей. А ту, что рано сделалась ею, перестав быть прежней, утратив единственную тонюсенькую преграду, отделяющую ещё девушку от уже не девушки. Объяснил, что в глазах у них, у ставших нами, немного другой свет горит, более тёмный, контрастный, шатеновый, даже если сама блондинка, с внимательностью и интересом к мужчине, с лёгким, но обжигающим кокетством, какое не удаётся в себе погасить, как ни старайся прикрыть его серьёзностью, обманом или другим занятием.
И оценивает, говорит, нас, как лошадь. Как коня, хочу сказать. Прикидывает уже с самого первого явления мужчины в её жизни. Сравнивает, глуповато провоцирует, вопросы вбрасывает вполне себе невинные, но с неприкрытым интересом и неумело замаскированной конкретикой. Лицо своё тоже подаёт по-другому, с мягкостью в линиях и ожиданьем в глазах. Плюс надежда, если нужна. И отсутствие страха насчёт того, что же это такое, когда оно случается в самый первый раз, раз уж зашагнула туда, прошлась немного, но уже многое успела понять даже после одного всего лишь соединения с мужчиной.
Как первый артобстрел, пояснил Паша, или же первый наезд чужого танка на окоп, где ты схоронился и, дрожа всем существом, пропускаешь над собой ревущие гусеницы. А другой раз понимаешь уже, что не задавит, просто не сумеет по механике самой, по законам притяжения тел к земле, а земли к другим планетам, малым и большим. И даже можешь успеть вдогонку ему связку гранат метнуть, на полное уничтожение гусеницы или рваную рану.
А ты, говорит, больше вела себя как маленькая дурочка, искренняя, не очень образованная и не готовая войти в сближение по зову изнутри, глубинному, сердечному, неумолчному. А снаружи — это пустое, детское, случайное, неокрепшее, не просчитанное зрелой головой — такой, сказал, и была ты до самого последнего времени.
А он ждал, говорит, но глушил в себе эти ожидания. А всё равно надеялся, не веря, что случится. Дождался, бабушка.
И плохо врать умеет. Это я уже от себя говорю, не от него. Вот почему мама бесилась, чувствуя, что не затвердевает, не схватывается раствор у неё, как ни старалась она забетонить все малюсенькие щели, а он всё равно киселём сквозь пальцы её просачивался, как ладошку ни сжимай, и капал, капал в сторону против всех физических законов любви.
Но Паша не виноват, ей упрекнуть его вообще не в чем. Если отбросить его недостатки, то он идеал мужчины, как бы и чего ему ни хотелось сделать головой, а не по факту жизни с мамой.
И если не брать в разговор того, что произошло у нас с ним.
Но это другое, а то было другое, при ней ещё, при жизни в мирное время, до суда.
Дальше излагаю, Шуринька, постепенно, чтобы не отогнать удачу на будущее.
Раздел меня сам, хоть и неудобно одной рукой. Но он справился, даже без моей помощи. Да я бы и не смогла, наверное, помочь: дрожала и тряслась под его рукой и прижатым телом. Но и, правду сказать, в домашнем тогда была, без лифчика. Потом он мне сказал, что и одной рукой сумел бы, даже если б лифчик был на мне. Это, говорит, вопрос не умения или привычки, а инстинкт добытчика и зверя, в хорошем смысле слова. Ведь никто не учит животное совершать любовные действия по продолжению рода, откуда ж навык? От природы. Вот и тут так же. Рука сама выщупывает нужное и получает необходимую судорогу к действию вверх, вниз или вбок по застёжке.
Потом целовал и гладил руками. Всю меня. От и до.
Включая.
Никогда не думала раньше, что поцелуи могут издавать собою такой волнительный привкус и звук: то ли мокрым по влажному, то ли бесшумным почти и тёплым отлипом губ от кожи, то ли это как обычный чмок, но диковинно нежный и редкий по жизненной потребности.
Знаешь, мне отчего-то вовсе не совестно, когда я тебе так подробно рассказываю про такое, Шуринька, ты ведь сама прошла выдающуюся школу освобождения женщины от закостенелости в представлениях о свободе духа и тела. Это мне дипломат один рассказал про тебя, но это опять немного потом, ладно? Сейчас про нас с Пашей идём, с подробной расстановкой по рассказу.
И довёл меня до состояния трясучки, окончательной, бесповоротной и незнакомой мне до этого бесподобного дня.
Говорит:
— Как же ты прекрасна, милая, как же сделана, ты даже не можешь себе этого представить.
Я:
— Могу.
Он:
— Это невозможно.
Я:
— Я иногда смотрюсь в зеркало, когда одна.
Он:
— Нет таких зеркал, которые отразят тебя правдиво.
Я:
— Я в парикмахерской смотрюсь, там бесплатно от пола до потолка.
Он:
— Человек несимметричен, девочка моя, иначе бы он был некрасив. Но к тебе это не относится, ты пленительна и бесподобна как явление природы, а не человека, как Божий дар, а не просто дорогой заурядный подарок.
Я не успела ему ответить, хотя и собиралась, потому что именно в эту секунду я стала женщиной. Тоже от и до.
И это уже навсегда, навечно, безвозвратно.
И это было такое счастье, Шуринька, такое головокружительное событие в моей довольно неинтересной жизни, что мне захотелось выпустить из себя стон, такой же, как выбрасывала из себя моя отбывающая срок мама, подчиняясь и соединяясь с этим же самым прекрасным мужчиной в годы нашей общей жизни на этих конюшенных метрах.
И я это сделала, застонала, я забилась под ним, обхватив его спину и найдя его мужские губы своими девичьими, ставшими женскими.
И не было слаще их.
Интересное дело. Знаешь, когда мужчина просто разговаривает, или в гостях, или в очереди, или по работе и учёбе, его отдельные органы и конечности совершенно не выглядят так и не ведут себя похожим образом, как в минуты телесного сближения с женщиной. Казалось бы, губы, и чего в них: они едят, плюются, кривят рот, курят, воняют дымом, облизываются, сохнут, притворяются трубочкой, задираются к носу и выворачиваются наизнанку, открывая своё мокрое и непривлекательное нутро. Но потом всё становится наоборот, как будто не было и не бывает с ними всего, о чём говорю. Они словно созданы для твоих переживаний из небесного строительного материала, и цель у них только одна — обхватить собою твои собственные губы, твою кожу, твои пальчики и пальцы, твои острые локоточки, пяточки, мочки ушей и всё вокруг шеи, даже если там и болит немного, как сейчас у мамы. И смешаться в поцелуе и ласке, когда уже не понимаешь, что из чего сделано и как всё это получилось, не догоняешь, что сошла с ума и не хочется оторваться от этих губ и рук, даже если они и не все имеются целиком. Про ногу вообще не буду говорить, нет никакого смысла — лёжа, её просто вообще не замечаешь, что её нет почти всей. И не мешает, а даже бывает, предоставляет лишний простор действиям в кровати.
Я так откровенно, Шуринька, и со знанием дела повествую, поскольку уже имею немалый любовный стаж: живём с Пашей третий год, и ещё ни разу не пробегала между нами тёмная кошка чёрного цвета, даже несмотря, что мама стоит промеж нас, и оба мы с ужасом думаем, как будем перед ней отвечать, когда её выпустят на свободу.
Говорит:
— Скажем, дело вынужденное, для решения прописки.
Я:
— А соседи?
Он:
— А что соседи?
Я:
— Я ж ору как ненормальная по ночам, они ж не идиоты, понимают, что к чему.
Он:
— Скажем, зубы режутся. Мудрости.
Шутит так, невесело.
Я:
— Во время оргазма? Зубы? Это что-то новенькое.
Шучу так, и тоже грустно.
Он:
— Это другое, а это другое.
Я:
— Что другое?
Он:
— Да всё, всё другое теперь! Я другой, ты другая, все другие!
Я:
— А мама-то не другая, она вернётся и снова на тебя права предъявит.
Он:
— Ты же сама знаешь, что я уже не смогу теперь. Всё, финита.
Я:
— Знаю. Только куда ты денешься? Ты инвалид без жилплощади. А то, что ты потрясающий любовник и очень умный и художественный дядька, знаем только мы с мамой. И даже я больше, чем она. И ты же не станешь на лбу у себя писать, что я, мол, хороший, люди добрые, я по шесть часов позу держу, не колыхнувшись, и ещё после этого два раза могу не вынимая. Извини за подробность.
В общем, Шуринька, препирались мы с ним так не один раз, но так ни к чему и не пришли. Безнадёга и тупик. Свищ на шее какой-то непроходящий.
Зоб сплошной.
Ну а касаемо того, как всё удалось нам сгладить по линии жилконторы и милицейского правопорядка, то ты уже, наверно, и сама догадалась, что подали мы тогда же заявление на регистрацию, ещё до конца отпущенной недели, и расписались в районном загсе, без свидетелей, аннексий и контрибуций. Короче, открыли второй фронт, временный, чтоб не прорвали нам первый. Так ты мне и не растолковала, что это за аннексии такие, а я ведь давно ещё этим у тебя интересовалась и рассчитывала на твою поддержку в обретении этих знаний.