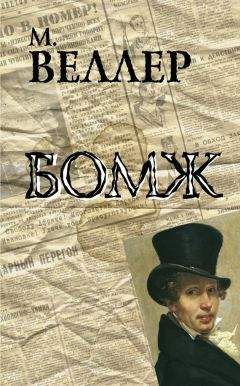Ознакомительная версия.
Если дочка Сталина! И сын Хрущева! Свалили в Штаты! То как же мы можем победить? А мелких гадов убивать — кровь впустую проливать.
Так что нет, ребята. Ограничусь я своими пятнадцатью личными врагами. Их замочу железно. А до остальных — какое мне дело до вас до всех, а вам до меня. И свалю тоже со своим ярдом за бугор. В Америке буду жить. Она большая. Куплю хорошую машину и буду по ней колесить, а ночевать в лучших отелях. И в койку — лучших девок по телефону. С хорошего питания — еще как стоять будет.
В конце концов, граф Монте-Кристо не устраивал ведь революцию во Франции. Решил свои проблемы — и адью месье, нас ждут иные сказочные края.
А на несколько лимонов — да хоть на сотню — я построю люксовый пансион для ребят. Мест на пятьдесят, я и столько не знаю близко-то. Отдельные комнаты, белье, трехразовое питание, медицинский пункт, стоматолог, нарколог. И найду верного человека следить — чтоб не разворовали.
Где я найду в России такого человека?..
И кто мне даст миллиард? Я что — Сечин, или Дерипаска?
Я вам скажу, что бы я сделал, если бы точно знал день своей смерти. Я бы обдумал, кто из моих врагов самый подлый и причинил мне больше всего зла. Заранее бы его нашел, изучил все его маршруты. Денег бы хоть поднакопил как-то, хоть украл, хоть что. Привел бы себя в человеческий вид, чтоб из толпы не выделяться. И накануне дня смерти убил бы его. Ножом.
А почему же я раньше-то этого не сделаю, мне ведь жизнь все равно не дорога нисколько, одно мучение!.. Сдохну в камере или на помойке — какая хрен разница? Вот чеченец-то на моем месте давно бы убил кого мог, и правильно бы сделал, и жизнь для него была бы дело второе.
Тварь дрожащая. Не в том дело, что право имеешь, а в том, что тварь дрожащая. У твари прав нет. А и есть — так отнимут. Здесь, на дне, все твари дрожащие. Мы потому свободны, что из людского общества в осадок на дно выпали. Нас уже почти нет в этой жизни. Мы уже одной ногой в той.
Так ведь и вы же, которые нас выкинули, которые из нас силы высосали, обобрали, надругались, — вы тоже ведь твари дрожащие. Всего боитесь, перед силой пресмыкаетесь, перед подлостью молчите, кусок свой жалкий в трудах зарабатываете.
Счастливы только сильные и храбрые. А сильные и храбрые в России только бандиты и воры.
Еще, правда, святые. Но их ведь сначала еще заморить надо.
Актер на пустыре повесился.
Строго говоря, он повесился не на пустыре, а на том же корпусе, в котором мы ночевали вчетвером, только снаружи. Там торчат разные штыри и торцы балок из стены этого цеха, вот он нашел веревку и на таком штыре повесился. Рядом ржавая бочка валялась, видно он ее подкатил, поставил на попа, а потом влез и оттолкнул ногой.
Теперь валить надо, пока всех не замели. Из автомата потом в ментовку позвоним. Увезут и спишут. Потом помянем.
Цех пустой, станки сто лет как увезли на металлолом, пол цементный выщерблен, окна выбиты, холод. Но конторка в углу, выгородка такая фанерная с крышей, сохранилась, не сожгли как-то. Вот если насобирать тряпок и картонных коробок и закрыть по возможности это ее огромное решетчатое окошко, закрепить эту всячину железячками в щели перегородки, и дверь тоже завесить чем можно, то там делается тепло. Ребята ее и обжили. Иногда там вечером прямо клуб: огонек, люди, разговор. Я там иногда оставался у них ночевать, если вечером выпьем, и к себе на трубы идти уже поздно, ночь, или дождь там, и вообще.
Вот вечером выпивали и базарили. Вонь поднялась — Горшок опять обгадился. Выкинули мы его вон: мой свой зад долбаный где хочешь, и штаны меняй как хочешь, люди сидят по-человечески, а ты где жрешь, там и срешь.
Синяк говорит:
— Был бы я мусульманин — убил бы тебя на хрен. А потому что ты свинья, а свинья животное поганое. Вот они молодцы, муслимы, поэтому их все больше. Потому что режут кого надо.
Ну, прогнали. Сидим. А Актер говорит:
— Ислам пить запрещает. Его трудно выдержать.
Еще помолчал и говорит:
— Не был бы я дурак — давно бы ислам принял. И уехал к черту… в Исламабад. Или в Египет — там хорошо.
— И чего тебе дураку там хорошо? Тепло, правда. Зато пить ведь запрещено! И кругом одна нищета, арабы, одним словом.
— И отлично. Во-первых, я бы не пил.
— А если б выпил?
— А расстреляли бы, и слава Богу. На хрен такая долбаная жизнь. А вообще если за это расстрел, то пить не будешь.
— Знаешь, если расстрел под вопросом, а выпить под носом — хрен устоишь!
— А главное, — продолжал Актер печально, следуя собственным мыслям, — по шариату нормально иметь четыре жены. Можно одну, но четыре нормальнее. Уважают тебя больше.
Так. Продолжение я уже знаю. Проходили. Он у нас несчастный влюбленный. Задоставал всех своей неземной любовью и тем, какая она сука.
— Дурак ты, — говорю, — и мечты твои дурацкие. Убил бы ты ее, сдался с повинной, получил восемь, вышел через шесть по УДО, и ходил бы на ее могилку цветы носить. Тебе бы еще сочувствовали и уважали за такую страсть.
— Да, — соглашается он, — мы два сезона «Кармен» играли, в районы ездили, в три области. Я — Хосе, она — Кармен. И всегда я думал: вот всажу ей прямо на сцене нож в бок, поцелую, встану над ней, бездыханной, на колени; а ночью в камере повешусь.
Свистит все, как сивый мерин! Мы давно знаем неромантичную правду, суровую прозу жизни нашего бухого товарища. Он где-то в районном театре был типа подметалой. Шаги за сценой. Декорации двигать в антракте.
Что делают театральные рабочие? Они пьют. Вот их главное дело. Что вообще все делают в театре? Пьют. Играют — иногда. А пьют — всегда.
— Артисту надо снять нервное напряжение! Он играет душой! На разрыв сердца! — надменно декламировал Актер. — Это не ваше пустое пьянство никчемных людишек! (Из него иногда обрывки ролей выскакивают — наслушался из-за кулис.)
— Дать ему в чан? — спросил Синяк.
Но нам скучно, и мы еще раз слушаем душераздирающую театральную мелодраму.
Она, чье имя не будет названо, ибо оно широко известно сегодня, была в юности неслыханной красавицей. У нее были белокурые волосы, голубые глаза, точеная фигурка и живой насмешливый нрав. А Актер учился с ней в одном классе, и даже один год, в шестом классе, они сидели за одной партой. И он давал ей списывать контрольные, потому что хорошо учился. Носил за ней портфель и дрался из-за нее.
А на выпускном вечере они признались друг другу в любви, и впервые поцеловались. И поклялись принадлежать только друг другу. Вот такие бывают девушки на свете.
И она уехала в Москву поступать в театральный институт. А он ушел в армию. И писал ей письма каждый день, в любых условиях.
А когда он пришел из армии, оказалось, что она его не дождалась и вышла замуж за одного знаменитого режиссера, в два раза старше ее, тот развелся из-за нее с третьей женой. И она написала, что просить ее простить, но раньше было просто школьное увлечение.
Но он устоял на ногах и сжал зубы. Он написал, что прощает ей все, но все равно она будет принадлежать ему. И тогда он наметил цель своей жизни. И железной походкой двинулся к ней.
Он поехал в Москву и поступил в тот же театральный институт, тоже на актерское отделение, в класс Михаила Ромма, а это был лучший театральный педагог в мире, ученик самого Станиславского. У него оказался талант, его стали приглашать на кинопробы. В конце концов его возлюбленная согласилась поужинать с ним в самом знаменитом в Москве ресторане «Националь», а он заранее снял люкс в гостинице над рестораном, и они провели ночь любви. И утром она плакала и умоляла простить ее за режиссера, а любила она всегда только его.
Негодяй со связями, знаменитый режиссер, добился отчисления из института их обоих. Но они ни о чем не жалели. Они рука об руку вернулись в родной город, и их тут же взяли на первые роли в городской театр. И дали лучшие роли — таким актерам, с такой школой, из лучшего института в стране! И дали двухкомнатную квартиру. И они были счастливы.
А через полгода она изменила ему с итальянским тенором. Это был оперный певец из театра «Ла Скала», и она не устояла. И тогда он впервые ударил любимую по лицу, она рыдала и валялась в ногах. А через год оказалось, что она любовница губернатора.
Бороться с этим оказалось невозможно. Она была красавица, она была прима, ее все добивались, и она давала всем самым видным и крутым. Ангел оказался демоном. Деньги и слава растлили ее.
А он все терпел. Она перестала его жалеть, стала им тяготиться, насмехалась над ним. Он терпел, умолял ее; он стал пить. Несколько раз он избивал ее, только чтоб не по лицу. И она сносила это молча и говорила, что он имеет на это право.
Она перестала с ним спать. Стала презирать. Говорила, что он тряпка. А он не мог без нее жить.
Он прикасался к ней только на сцене, и публика аплодировала его страсти и отчаянью и ее стыдливости и внутренним терзаниям.
Ознакомительная версия.