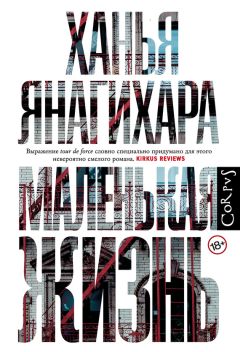Прошли месяцы, прежде чем он разобрался, что ему помогает. Одно время он каждый вечер не отрывался от фильмов с участием Виллема, смотрел их, пока не засыпал на диване, прокручивал до сцен с репликами Виллема. Но кинореплики, актерская игра Виллема отдаляли его, а не приближали, и в конце концов он осознал, что лучше было просто остановиться на каком-то кадре, чтобы лицо Виллема застыло, уставившись на него, а он бы впивался в него взглядом, смотрел и смотрел до рези в глазах. Проведя так месяц, он понял, что нужно бережнее обращаться с запасом фильмов, чтобы они не утратили силу. Тогда он начал по порядку, с самого первого фильма Виллема «Девушка с серебряными руками», который он жадно смотрел каждую ночь, останавливая и снова запуская, то и дело вглядываясь в очередной стоп-кадр. По выходным он смотрел его часами: начинал, когда небо только меняло цвет с ночного на утренний, а заканчивал, когда оно уже давно снова почернело. А потом он понял, что смотреть эти фильмы в хронологическом порядке опасно, потому что это значило, что с каждым днем он подбирается все ближе к гибели Виллема. Тогда он стал выбирать фильм месяца в случайном порядке, и оказалось, что так безопаснее.
Но главная, самая успокаивающая фантазия, которую он себе сочинил, заключалась в том, что Виллем просто уехал на съемки. Это очень долгий и очень сложный проект, но когда-нибудь он закончится и Виллем вернется. То была хрупкая иллюзия — ведь не бывало таких съемок, на протяжении которых они с Виллемом не разговаривали по телефону, не обменивались письмами или записками (часто и то, и другое, и третье) каждый день. Он радовался, что сохранил столько электронных писем Виллема, и некоторое время мог читать эти старые письма по ночам и делать вид, будто только что получил их; даже когда хотелось читать все запоем, он удерживался и позволял себе не больше одного письма за раз. Но он понимал, что вечно этим сыт не будешь — он должен быть строже к себе в деле выдачи писем. Теперь он читает по одному письму в неделю, не больше. Он может перечитывать то, что уже прочел в предыдущие недели, но не может прикасаться к тем, которые еще не прочел. Это еще одно правило.
Но это не решало проблему с молчанием Виллема: какие обстоятельства, думал он, пока плавал по утрам, пока стоял и смотрел невидящим взглядом на плиту, ожидая, когда засвистит чайник, могут помешать Виллему связаться с ним во время съемок? В конце концов он смог придумать сценарий. Виллем снимается в картине об экипаже советских космонавтов времен «холодной войны», и съемки этого воображаемого фильма по-настоящему проходят в космосе, потому что его финансирует русский промышленник-миллиардер, вероятно, сумасшедший. Так что Виллем далеко, облетает землю над его головой каждый день и каждую ночь, хочет домой, но не может с ним связаться. Запредельная невозможность этого воображаемого фильма его смущала, как и запредельность собственного отчаяния, но все-таки проект казался достаточно вероятным, чтобы усилием воли поверить в его реальность, иногда надолго, аж на несколько дней. (В тот момент он испытывал чувство благодарности за то, что в логистику и вообще в реальность работы Виллема так часто невозможно было поверить; а теперь, когда ему это было так нужно, верить в невозможное помогала сама неправдоподобность киноиндустрии.)
Он представлял себе, как Виллем спрашивает: а как называется картина? — представлял, как он улыбается.
«Дорогой товарищ», отвечал он Виллему — так они иногда писали друг другу: дорогой товарищ; дорогой Джуд Гарольдович; дорогой Виллем Рагнарович, — это началось, когда Виллем снимался в первом фильме своей шпионской трилогии, действие которой разворачивалось в Москве 1960-х. В его воображении съемки «Дорогого товарища» должны были продлиться год, хотя он понимал, что их придется корректировать: уже наступил март, в этой его фантазии Виллем возвращался домой в ноябре, но он знал, что к ноябрю еще не сможет отказаться от игры. Он понимал, что придется придумывать пересъемки, задержки. Он понимал, что придется изобрести сиквел, какую-то причину, которая продолжит удерживать Виллема вдали от него.
Чтобы фантазия была еще правдоподобнее, он каждый вечер садился за компьютер и писал Виллему письмо с рассказом о событиях дня, точно так же, как он делал бы, будь Виллем жив. Каждое сообщение всегда заканчивалось одинаково: «Надеюсь, что съемки продвигаются успешно. Я очень по тебе скучаю. Джуд».
В январе прошлого года, когда он наконец вышел из ступора, окончательность отсутствия Виллема по-настоящему его догнала. Тогда-то он и понял, что его дела плохи. Он очень смутно помнит все предыдущие месяцы; очень смутно помнит тот самый день. Он помнит, что сделал салат с пастой, порвал листья базилика над миской, взглянул на часы и подумал, куда это они запропастились. Но не обеспокоился: Виллем любил возвращаться по проселочным дорогам, Малкольм любил фотографировать, так что они могли где-то остановиться, могли не отследить время.
Он позвонил Джей-Би, выслушал его жалобы на Фредрика, нарезал дыню на десерт. К этому времени они уже серьезно задерживались, и он позвонил Виллему, но в трубке были только гудки. Да куда ж они делись, раздраженно подумал он.
А потом прошло еще время. Он шагал туда-сюда по кухне. Он позвонил Малкольму, Софи — нет ответа. Он снова позвонил Виллему. Он позвонил Джей-Би: они ему не звонили? Он ничего не слыхал? Джей-Би не слыхал.
— Да не парься, Джуди, — сказал он. — Наверняка за мороженым заехали или что-нибудь такое. Или решили сбежать.
— Ха, — сказал он, уже понимая, что что-то не так. — Ладно. Позвоню тебе попозже, Джей-Би.
И как только он положил телефон, зазвенел дверной звонок, и он в ужасе замер, потому что никто еще ни разу не звонил им в дверь. Дом было трудно найти, его нужно было искать, а от главной дороги приходилось идти вверх — и это был долгий путь, — если никто не открывал подъездные ворота, а он не слышал, чтобы у ворот кто-нибудь звонил. О господи, подумал он. О нет. Нет. Но звонок раздался снова, и он обнаружил, что идет к двери, и, открывая ее, отметил не столько выражение лиц полицейских, сколько то, что они снимали фуражки, и тут он все понял.
После этого он потерял счет дням. Он приходил в себя проблесками и видел те же лица — Гарольда, Джей-Би, Ричарда, Энди, Джулии, — что и после попытки самоубийства: те же люди, те же слезы. Они плакали тогда и плакали сейчас, и время от времени он запутывался, думал, что минувшее десятилетие — годы жизни с Виллемом, ампутация — могло быть все-таки сном, что он до сих пор в психиатрическом отделении. Он помнит, что в эти дни он постепенно узнавал разные подробности, но не помнит, как он их узнавал, потому что не помнит ни одного разговора. Но, наверное, разговоры были. Он узнал, что это он опознавал тело Виллема, но ему не позволили увидеть лицо — Виллема выбросило из машины, и он врезался головой в вяз, который рос в тридцати футах от дороги, на другой ее стороне; этот удар уничтожил его лицо, переломал все лицевые кости. Поэтому он опознавал его по родимому пятну на левой икре, по родинке на правом плече. Он узнал, что тело Софи было раздроблено — он помнил, как кто-то сказал «стерто в порошок» — и что у Малкольма была диагностирована смерть мозга и он четыре дня прожил на искусственной вентиляции легких, а потом его родители запустили процедуру донорства органов. Он узнал, что все они были пристегнуты; что у прокатного автомобиля — этого дурацкого, блядского прокатного автомобиля — были неисправны подушки безопасности; что водитель грузовика, принадлежавшего пивоваренной компании, был смертельно пьян и проехал на красный свет.
Он почти все время был накачан лекарствами. Так было, когда он ходил на поминальную службу по Софи, которую он не помнил вообще, ни одной детали; так было, когда он ходил на службу по Малкольму. Там он запомнил, что мистер Ирвин схватил его, потряс за плечи, а потом прижал так крепко, что чуть не задушил, и так рыдал, уткнувшись в него, пока кто-то — должно быть, Гарольд — не сказал что-то, и его отпустили.
Он знал, что была какая-то служба и по Виллему, очень скромная; он знал, что Виллема кремировали. Но он не помнит о ней ничего. Он не знает, кто ее организовал. Он даже не уверен, что был на ней, а спрашивать боится. Он помнит, что в какой-то момент Гарольд сказал ему — ничего страшного, если он не будет произносить надгробную речь, что он может устроить что-то в память о Виллеме позже, когда будет к этому готов. Он помнит, что кивнул, помнит, что подумал: но я же никогда не буду готов.
В какой-то момент он вернулся на работу; наверное, в конце сентября. К этому моменту он знал, что произошло. Правда знал. Но еще пытался не знать, и тогда это еще давалось сравнительно легко. Он не читал газет, не смотрел новостей. Через две недели после гибели Виллема они с Гарольдом шли по улице, и по пути им попался газетный киоск, и вот перед ним возник журнал с лицом Виллема и двумя датами, и он понял, что первая дата — это год рождения Виллема, а вторая — год его смерти. Он стоял, уставившись на журнал, и Гарольд потянул его за рукав.