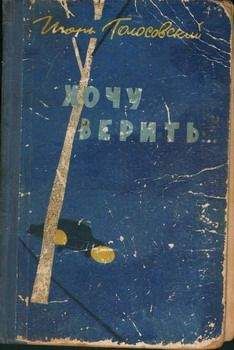В первый раз она приняла меня немедленно, а теперь заставила дожидаться в приемной, хотя в кабинете никого, кроме нее, не было. Это показалось мне дурным предзнаменованием. Наконец секретарша пригласила меня войти.
Осина сидела, склонившись над макетом.
— Слушаю вас. — Она не подняла головы от стола.
— Как насчет объявления? — сердито спросил я, раздосадованный ее сухим тоном. — Я ждал вчера и позавчера. Ведь оно коротенькое — всего двадцать строк! К чему тянуть, когда дорог каждый день?
— Дело не в объеме, — прервала Осина, взглянув на меня укоризненно. — Дело, дорогой Алексей Михайлович, совсем в другом.
— В чем же?
— Печатать мы ваше объявление не будем.
— Почему?
— Есть много причин… Не стоит говорить о них.
— Но как же? Ведь вы сами…
— Обстоятельства переменились.
— Пусть так, — тихо сказал я, собравшись с мыслями. — Мне хорошо известно, что вы можете назвать любую причину, и я не смогу с вами спорить. Но скажите откровенно, что случилось? Даю честное слово, этот разговор останется между нами. Ведь вы газетчик. Вы понимаете, в каком я состоянии!
Осина бросила на меня быстрый взгляд и, поколебавшись, ответила:
— Советую вам побеседовать с товарищем Томилиным.
— С заведующим партархивом?
Елизавета Васильевна озабоченно посмотрела на часы и перевела взгляд на макет, лежавший перед ней на столе.
Попросив извинения, я вышел.
Я был настолько ошеломлен всем этим, что ни одной связной мысли не приходило мне в голову. Обозленный и расстроенный, я добрался до гостиницы. Здесь меня ожидал еще один сюрприз.
— Вас три раза вызывали из Москвы, — сказала дежурная по этажу. — Просили быть в номере, они еще позвонят.
Сняв пальто, я сел на кровать и принялся вспоминать разговор с Осиной. Почти тотчас же раздался звонок.
Я взял трубку и услышал голос ответственного секретаря Василия Федоровича.
— Здравствуйте, Алексей Михайлович. Как у вас дела?
Он обычно называл меня на «ты», и его официальный тон немало меня удивил.
— Дела ничего, нормально, — ответил я. — — Разве Иван Трофимович не рассказал вам? Завтра поеду на химзавод…
— Возвращайтесь немедленно в Москву! — отчеканил Василий Федорович.
— Как? А конференция?
— Ваша командировка аннулирована!
— Что случилось? — закричал я.
— Ты не знаешь, что случилось? — Голос секретаря был зловещим. — Хорошо, так и быть, я тебе объясню. На имя редактора пришло письмо от родственников казненных подпольщиков из Прибельска. Они пишут, что возмущены твоими попытками реабилитировать предательницу Зайковскую, и не могут понять, с какой целью это делается. Они пишут, что подобная деятельность московского журналиста оскорбляет память их погибших отцов, мужей, братьев… Мы тебя предупреждали, что нужно быть предельно объективным, а ты перестал искать правду и принялся выуживать только такие факты, которые нужны для оправдания Зайковской.
— Да, это верно, — ответил я. — Я убежден, что она не виновата, и хочу это доказать. А фактов, говорящих против нее, и так больше чем достаточно. Я должен быть объективным? Что ж, по-вашему, я не объективен? Значит, я заинтересованное лицо?
— Выходит, что так. Такое, братец ты мой, складывается впечатление!
— Ну, и очень хорошо. Да, я заинтересован в том, чтобы она оказалась честной. По-моему, мы все должны быть в этом заинтересованы! Что в этом плохого?
— Тебя ее переспоришь! — строго сказал Василий Федорович. — И я «е намерен с тобой спорить. Сегодня же выезжай в Москву! Здесь поговорим.
— Вернуться не могу, — ответил я.
— То есть как не можешь? Бочаров в Австрии с делегацией, я замещаю редактора, и то, что я тебе сказал, — это приказ. Уясняешь?
— Уясняю. Но все равно… Извините, Василий Федорович… Я не приеду. — Он что-то ответил. Я уже не слышал. Я осторожно положил трубку и вышел из номера.
На улице было безветренно. Падал снег. На шапках и на плечах у прохожих наросли, сугробы. Я был почти спокоен. Взяв такси, я поехал в обком. Томилин встретил меня стоя. Он собрался уходить и был уже в пальто.
— Я задержу вас на минуту, — сказал я. — Это вы запретили Осиной опубликовать мое объявление?
— Я не могу что-либо запретить или разрешить редактору газеты, — сухо ответил он. — Мое дело лишь дать справку. Я ее дал. Я сообщил, что мы располагаем достаточно полными сведениями о так называемой «деятельности» Зайковской в подполье.
— А Галя Наливайко?
— В списке подпольщиков, утвержденных бюро обкома, она не значится. Как можно ставить вопрос о ее работе в подполье на страницах областной партийной газеты? — Внимательно посмотрев на меня, он мягко добавил: — Не усматривайте в моих действиях желания вставить вам палки в колеса. Просто вы поспешили. Вы не хуже меня знаете, что печать — дело серьезное и нужно прибегать к ее помощи осторожно.
Наверно, он был прав, но я не видел во всем этом никакого смысла. Меня угнетала и выводила из себя полная нелепость происходящего.
— Хорошо, — сказал я. — А письмо в редакцию? Вы о нем знаете?
— Я его читал, — спокойно ответил Томилин.
— Вы читали?! — Я был изумлен. — И вы… вы согласны с тем, что там написано?
— Я не советовал посылать это письмо, я рекомендовал сначала побеседовать с вами. Но Варвара Борисовна не последовала моему совету…
— Тимчук? — Я почему-то сразу подумал о ней еще в гостинице.
— Да, Тимчук. Автор письма она. Остальные только поставили свои подписи.
Очевидно, она от вас узнала, зачем я приехал в Прибельск!
— От меня. А разве не следовало ей говорить? Вопрос был с подвохом.
— Нет, отчего же! — пробормотал я. Томилин положил руку мне на плечо.
— Не обижайтесь на нее, поймите, для вас это интересный материал, и только, а Тимчук по вине Зайковской потеряла мужа.
— Да, — согласился я. — Об этом я не подумал… Но что же делать? Ведь она ошибается… Я хочу поговорить с нею… Где она живет?
— На улице Энгельса, дом шесть, но вам не стоит туда идти.
— Нет, я пойду.
Томилин сочувственно и в то же время осуждающе взглянул на меня и надел шапку. Мы вместе вышли из обкома. Заведующий партархивом проводил меня.
Он был прав: мне не следовало встречаться с Тимчук. Разговор у нас не получился. Варвара Борисовна пригласила меня в большую холодную комнату с блестящим и холодным как лед паркетом, замороженными окнами и темным, как вечернее небо, потолком. Она предложила мне сесть и сама не села.
— Слушаю вас. — Ее голос был таким ледяным, что мне показалось, будто изо рта у нее идет пар.
Я молча протянул ей письма Людмилы. Тимчук, удивленно подняв белесые брови, взглянула на меня, затем стала разглядывать письма. Я терпеливо ждал, пока она читала. Ее лицо не изменило враждебного выражения.
— Вы считаете это документом? — презрительно спросила она. — Вот это? Я думала, вы располагаете большим!
Она разговаривала со мной так, словно мы были враждующими сторонами в суде и от собранных каждым из нас доказательств зависел исход дела.
Я молчал, желая дать ей выговориться. Тимчук прошлась по комнате, на ходу поправляя коврики и фарфоровые тарелочки, висевшие на стенах, остановилась передо мной и сказала:
— Меня-то вы не переубедите. Я все делаю, чтобы и другие вам не поверили. Понятно?
— Но почему? У вас тяжелые воспоминания, верно, но истина должна быть дороже…
— Истина? — фыркнула она. — Где? В этих ваших письмах? Кстати, кто вам их дал?
— Дочка Зайковской Маша.
— Ее дочка умерла!
— Представьте, оказалась жива…
— Вот как? Ну, тогда мне все ясно! — торжествующе ответила Варвара Борисовна. — Она сама их написала!
— Что-о?!
— Факт, а теперь нарочно морочит вам голову!
Вряд ли вы лично заинтересованы… Она вас ввела в заблуждение!
— Но зачем ей это? — Мне показалось, что я сплю и вижу нелепый, уродливый сон.
— Известно, зачем. Лучше хвастаться геройскими подвигами своей мамаши, чем стыдиться ее всю жизнь… Да еще, глядишь, и пенсию назначат персональную, как члену семьи подпольщика.
Ее фразе насчет пенсии я тогда не придал никакого значения.
Мне стало ясно, что разговор зашел в тупик. Продолжать его не имело смысла.
— До свидания, — сказал я. — Жаль, что вы так настроены. Маша — честная, хорошая девушка, а письма, разумеется, написаны Людмилой.
— Хотя бы даже и так, — ответила Тимчук, провожая меня в переднюю. — Это ничего не доказывает. В райкоме да на собраниях она, может, и была комсомолкой, а как припекло — стала немцам пятки лизать. Вообще вы мне лучше о Зайковской не говорите. Я ее получше вашего знаю. И не пытайтесь из этой фашистской шлюхи святую сделать, не выйдет!
Непримиримая, жгучая ненависть прозвучала в ее голосе. Я словно на секунду заглянул в пропасть…
В гостиницу идти не хотелось. Сев на скамейку в пустом, темном сквере, я задумался. Дела мои были плохи. Разве не права была Тимчук, вдова повешенного немцами патриота? Она не понравилась мне: что-то неискреннее, хитрое, фальшивое было во всем ее облике. Но какое значение имели мои симпатии или антипатии? Я мог и ошибаться. Чем, в сущности, я располагал? Старыми письмами, странным путем попавшими ко мне в руки. Я достиг бы, возможно, успеха, если бы мне помогали люди, связанные с подпольем, но был обречен на неудачу в обстановке открытого недоброжелательства.