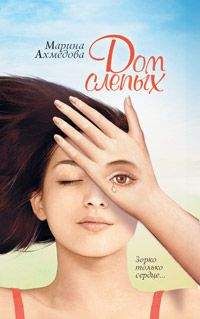Ознакомительная версия.
«Притворяйся, играй», – думала Люда, жмурясь.
Марина раскрыла мешок, Уайз наклонился – пощупать его содержимое.
– Мы с Людой в прошлый раз мешок собрали, а спустить не успели. Решили, будем заносить по чуть-чуть, чтобы аппетиты не разыгрались, а желудки не растянулись.
– Ну что ты… – по-детски засопел Уайз. – У меня уже желудок с наперсток. Слипся от лепешек… Ой, это что? Макарончики… – ощупывал он пакеты. – Рис, гречка… Ой, а это? – Уайз всплеснул руками, и они поднялись жирными птицами, распухшими от голода и водянки. – Масло подсолнечное? Боже мой… А я о жареной картошке все мечтаю. Нажарить бы ее соломкой только не на подсолнечном, а на кукурузном масле. Вот это еда – королевская. Я б тарелку съел… Иногда мне сквозь сон слышится, как картошка сквырчит, будто на сковороде. Сквырк, сквырк, – картаво изобразил он. – Когда она вот так сквырчит, с огня ее снимать надо – готова. Думаю, проснусь, налопаюсь картошки, прямо без хлеба… Просыпаюсь, а это, оказывается, не картошка, а посторонние звуки…
– Откуда у нас в подвале посторонние звуки? – спросила Валентина. – У нас тут все свои, и звуки тоже – свои…
– Ну-у-у… когда Пахрудин радио крутит, там такие помехи бывают – цык-сквырк. Или шипит, как будто масло на сковороде греется. Поэтому когда Пахрудин утром включает радио, я вижу во сне жареную картошку.
– Потому что у Пахрудина хобби, – Пахрудин высунул голову из-под одеяла, которым был накрыт вместе с тюбетейкой, и заговорил о себе в третьем лице. – Пахрудин занят делом и не думает постоянно о еде. Спросите у Пахрудина: что ты, Пахрудин, предпочитаешь – кусок хлеба или выйти в радиоэфир? И Пахрудин вам честно скажет: выйти в радиоэфир!
– Поэтому Пахрудин вчера последнюю лепешку съел, которую мы собирались разделить на всех! – грозно оборвала его Валентина, вдавила глубже в переносицу темные очки, напрягла подбородок и терминатором посмотрела на мужа.
– Вах, ты смотри какой! – Фатима махнула на Пахрудина ковриком, и Чернуха, увидев это движение, по привычке затрусила к выходу.
– Да не маши ты, Фатима, не маши, вижу я… – заворчала Люда.
Но та уже не обращала внимания ни на Люду, ни на собаку, а буравила одним глазом Пахрудина, словно хотела разглядеть у него в желудке кусок вчерашней лепешки.
– Не смотри на меня так! – крикнул Пахрудин, и голос его дал петуха. – Еще сглазишь! Не люблю я, когда на меня зрячие смотрят.
– Я не зрячая! – оскорбилась Фатима так, будто Пахрудин отнимал у нее особую привилегию.
– Ты, Фатима, делом займись, а моего мужа глазить не надо, – Валя снова приняла сторону Пахрудина. – Своего заведи, тогда глазь, сколько хочешь. Иди лучше молись. Время молитвы уже наступило.
– Вах, ты меня учить будешь, когда мне молиться?! Я что, сама не знаю, когда мне молиться? Не учи ученого! Я на часы не смотрю, сама чувствую, когда время приходит. Вах… О Аллах, за что ты посадил меня в этот подвал с этими людьми?!
– За то и посадил, что глазливая ты! – визгнул Пахрудин, рукой выписывая в воздухе абстракции и готовясь сорвать с головы тюбетейку. – Аллах подумал, пусть Фатима под землей сидит, никого глазить не будет. А вот зачем он нас с тобой посадил – это вопрос! Вот этого я понять не могу.
– Пахрудин, тебе не стыдно так про Аллаха говорить? – Нуник возмущенно стукнул по полу тростью. – Откуда ты можешь знать, что он думает? Валентина, скажи своему мужу. Он сейчас Аллаха прогневает, и Аллах сбросит на нас бомбу. И так на ниточке каждый день висим, только и молимся, чтобы ничего не случилось. Чтобы ничего вон оттуда на нас не упало, – Нуник вознес руку с тростью к потолку и потряс ею, посохом показывая направление, с которого может прийти кара Аллаха.
Чернуха неверно поняла его движение, заскулила, пригнулась, готовясь получить палкой, и почти на брюхе выползла в другой отсек.
– А ты меня Нуник не учи, что мне делать. – Валентина зыркнула очками, еще больше напрягая подбородок. – Мой муж, сама с ним разберусь. Без ваших советов как-нибудь обойдусь. Бог не такой жестокий, чтобы из-за шутки Пахрудина бомбы на нас сбрасывать… Слепые вы все, одно слово – слепые, ничего не понимаете. Вы что, думаете, это Бог на нас бомбы бросает? Это люди нас бомбят, и хватит уже во всем Бога винить. Сами натворят, а все на Бога списывают. Не стыдно? Бог тут при чем? Он что, людям говорит: воюйте друг с другом, убивайте друг друга, сбрасывайте друг на друга бомбы? Возлюби ближнего своего, как самого себя, он говорит. Это люди, глухие, слепые, его слов не слышат, не понимают.
– Вах, Валя, ты что говоришь? О Аллах, ты прости ее за такие слова…
– Может, я тоже сам себя в этот подвал посадил? – Нуник подскочил к Валентине и стукнул тростью у самых ее ног. – Значит, твой Бог тут ни при чем? Меня плохие люди сюда посадили, а ему, значит, там все равно – не его забота, не он сажал, не ему… как это… вытаскивать нас отсюда? Зачем мне тогда такой Бог нужен, который ни за что не отвечает?! Возлюби ближнего, он говорит! А почему тогда никто никого не любит? Почему он не сделает так, чтобы любили. Мало сказать, надо научить, показать надо – как любить! Это твой русский Бог так говорит, от своего я ничего подобного не слышал!
– А твой Бог что говорит?! Он то же самое говорит! – Валя выпятила грудь, и Нуник был вынужден отступить. – Если вы все слова своего Бога с арабского читаете, то он и не виноват, что вы его не понимаете! Фатима, ты знаешь арабский? Нет, не знаешь, только лбом пять раз в день об пол – бум-бум, бум-бум. А что она там шепчет, сама не понимает! Откуда ей знать, что Бог про любовь говорит? Она же с ним на разных языках разговаривает.
– Астахфируллах! – завопила Фатима, лихорадочно ища амулет у себя на груди, нашла, вынула из-под кофты, поцеловала. – О Аллах, ты не слушай их. О Аллах, не обращай на них внимания.
– Мой Бог добрый, – сказала Валентина тише, делая вид, что не слышит причитаний Фатимы. – Мой Бог – зрячий. Он знает, что мы есть…
– Ни твой Бог, ни мой ничего о нас не знают, – тише сказал Нуник. – Оттуда сверху он нас не видит, мы же под землей сидим, нас вот эти бетонные балки от него закрывают.
– Бог чув-ству-ет нас, – членораздельно сказал Уайз, потом добавил: – А глаз у него нет.
– Тогда где он, если чувствует? – спросил Нуник. – В отпуске, что ли? Поработал, создал этот мир, а теперь отдыхает? А мы тут сами без него выкручиваемся как можем? Такой твой Бог? Завел нас на земле, как Люда щенков, а кормить нечем, выпустить некуда, погибнут. И мы тут, как щенки сидим, голодные, выглянуть на улицу боимся.
– Астахфируллах! – крикнула Фатима.
– Нуник, что ты врешь? Я о своих щенках забочусь, – шутливо сказала Люда, она уже давно не общалась с незрячими на серьезной волне. – Я-то кто – простая женщина. А он – идеальный, добрый. Если я о своих щенках забочусь, то и он о нас позаботиться.
– Вы как хотите, хоть сто раз в день ему молитесь, а я ему больше не верю, – устало отозвался Нуник. – Когда я в детстве понял, что не такой, как все, я каждый вечер перед сном ему молился, чтобы стать таким же. Я просыпался утром, ждал, что придет ко мне зрение, но ничего не менялось. Зачем такому Богу молиться? Тогда я ему сказал: хорошо, я принимаю то, что жизнь мне дала и не дала, только пусть никогда не станет хуже. А что теперь? Он нас бросил, как слепых щенков, в этот подвал, и с каждым днем все только хуже становится и хуже! Чем больше его просишь, тем только хуже. Зачем его такого я буду просить?
– Астахфируллах! Теперь он точно на нас что-нибудь сбросит! Нуник сам боялся Аллаха прогневать, теперь вон что говорит. Ай, как не стыдно? – Фатима сжимала в руке амулет.
– Нуник, может, у тебя в следующей жизни все будет – новый аккордеон, новые глаза, – сказал Уайз. – Будешь, как все, и даже лучше. На гастроли будешь ездить. За то, что ты сидишь в подвале, может, Бог даст тебе больше, чем даст другим в следующей жизни.
– А я не хочу в следующей, я сейчас живу, сейчас и хочу! Мне больше всех не надо, я только прошу крышу над головой, воду из крана, даже пусть только холодную, я согласен, еду какую-нибудь, жареную картошку каждый день… ну пусть не каждый день, два раза в неделю, хорошо. Хлеб без песка. И пусть у меня старый аккордеон останется, не надо мне нового, он дорого стоит, может, у Аллаха столько денег и нет, поэтому я не прошу, пусть только эти недолеты-перелеты по небу больше не летают. Пусть небо будем спокойным. Больше мне ничего не надо – ни дворцов, ни машин, ни бассейнов. Но он нас бросил, как слепых щенков.
– Астахфируллах! – снова бухнула Фатиама.
– На улице для собак много еды… – сказала Марина, думая, кажется, о чем-то своем.
– Только не каждый падаль есть будет! – заревел Нуник, тряся тростью. – Я лучше с голоду подохну, чем падаль есть буду!
– Вот видишь, Нуник, – тихо сказала Марина. – Ты говоришь, Бог тебе ничего не дал, а он дал тебе очень многое…
– Да?! – Нуник покрутил головой. – И где же оно – это многое? Что-то я ничего тут не замечаю. Может, потому, что я слепой, а, Марина? Может, я не вижу ничего, а тут не подвал, а дворец с фонтанами и павлинами, а?
Ознакомительная версия.