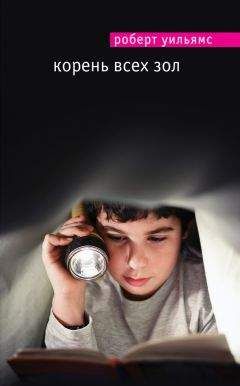— Мне не нравится оставаться одному. Днем ничего, а ночью, когда темно и всякие звуки, не очень. Хотя я оставляю в комнате свет, вокруг-то все равно темнота, и страшно — что там может быть такое.
— Ну, ночью легко испугаться того, на что днем и внимания не обратишь, — сказал я. — Где-то стукнет — когда светло, ты и не задумаешься, что там, а в темноте всякое может померещиться, правда? Например, что за дверью монстр. — Пытаясь рассмешить Джейка, я состроил зверскую рожу и затопал ногами, словно поднимающееся по лестнице чудище.
Джейк даже не улыбнулся.
— Я ночью все думаю про того человека, который застрелил свою жену через потолок, там, в доме с привидениями, — как будто он внизу, подо мной, и сейчас поднимется и застрелит меня. Когда мамы нет, я иногда свет во всех комнатах включаю, но все равно страшно. Наверху мне кажется, что он внизу, а внизу слышу какой-нибудь шум сверху и думаю, что он там меня поджидает.
Я полный идиот. Сам напугал.
— По-моему, ты очень храбрый, — сказал я, положив руку ему на плечо.
Мы уже подходили к его улице, и пора было расставаться. Я спросил, где нам лучше встретиться в субботу — на площадке или в библиотеке, и мы сошлись на первом, условившись о времени. Шагая домой, я по дороге думал, что же делать с Джейком.
Когда я вернулся, мама по-прежнему была не в духе; ее злость и недовольство отравляли все вокруг. Ее бесило и если я слишком много торчал дома, и если пропадал чересчур надолго, — найти тонкую грань между тем и другим всегда стоило мне больших трудов, в последнее время я и пытаться перестал. В таком настроении ей все равно не угодишь. Даже если просто сидеть и молчать, ее и это будет выводить из себя, да и все остальное тоже, ничего тут не поделаешь. Птичка защебечет во дворе — хлопок дверью, сосед через два дома присвистнет у себя в комнате — рассвистелся, чтоб его. Раньше я как-то терпел, ходил на цыпочках, старался не провоцировать мать понапрасну… Теперь терпения у меня уже не оставалось. Я был сыт всем этим по горло — можно подумать, в целом мире никто, кроме нее, не чувствует боли, грусти, отчаяния и одиночества. И вообще, со всеми одолевавшими меня мыслями мне было не до мамы. Она завела шарманку, не успел я войти, так что пять секунд спустя я уже пулей вылетел через черный ход. Захлопнутая дверь отрезала ее голос, но лишь на мгновение — створка тут же распахнулась, и вслед мне полетели вопли и обещания всевозможных кар. Я, не оборачиваясь, как можно быстрее зашагал прочь. Плевать на ее угрозы — пусть потерпит до четверга и запишет их в свой гребаный дневник. Я не мог там оставаться — мне нужно было подумать, а как тут думать, когда она сидит в своем углу, исходя злобой?
Я вдруг понял, что делать. Мысль ударила меня внезапно, как снежок в лицо. Надо поговорить с Фионой.
В карьере ее не оказалось — именно тогда, когда она больше всего была мне нужна. Есть выражение, что пока смотришь за чайником, он не закипит — ерунда, конечно, смотри не смотри, вскипит одинаково, — но вот когда позарез надо с кем-то встретиться, то ни за что просто так с ним не столкнешься, это уж как пить дать. Тогда я решил пойти к ней домой. Последний раз я заходил к ней сто лет назад, но сейчас мне было просто необходимо ее увидеть. Я спустился в карьер, выбрался с другой стороны, потом полем, через изгородь, и пять минут спустя вышел на Солтхилл-роуд, перед выстроившимися в ряд шестью десятками домов. Все они раньше принадлежали муниципалитету, выглядели совершенно одинаково, и я никак не мог вспомнить, в котором живет Фиона. Я бродил туда-сюда, и тут мне повезло — я заметил перед одним из домов британский флаг, потрепанный и выгоревший, что называется, видавший виды. Отец Фионы вывесил его несколько лет назад, когда по соседству поселилась семья каких-то азиатских эмигрантов. Те давно уже съехали, а флаг оставался на прежнем месте, хотя и пребывал в довольно жалком состоянии — белая полоса посерела, крест из красного превратился в бледно-розовый и расползся, потеряв форму.
Уже стоя перед дверью, я вдруг заколебался. Дом никогда не выглядел гостеприимным, да и с прочими членами семьи я отнюдь не горел желанием встретиться. Но я просто должен был поговорить с Фионой. Я постучал и тут же принялся повторять про себя: «Пусть она сама откроет, пусть она сама откроет, пусть она сама откроет…» Однако вместо Фионы на пороге появился ее младший брат, Тайлер. Оглядев меня с ног до головы, он откусил от горбушки, которую держал в руке. «Чего тебе?» — поинтересовался он, жуя. Последний раз Тайлер видел меня несколько лет назад и теперь, похоже, понятия не имел, кто перед ним. Я спросил, дома ли Фиона, и он ухмыльнулся во весь рот, показав хлебную жвачку, похожую на картофельное пюре. «А-а, хахаль», — проговорил он и, крикнув сестру, исчез в комнате. Дверь захлопнулась. Я услышал голос Фионы, ругнувшейся где-то наверху, и через несколько мгновений ее ноги застучали по ступенькам. Выглянув, она велела мне подождать, на секунду заскочила обратно и выбежала уже в своем длинном пальто. Дернув за собой дверь, зашагала рядом со мной. Я успел ее разглядеть, пока она спускалась с крыльца, и сперва она показалась мне немного усталой. Но тут же, стоило ей выйти на солнце, как у меня ком встал в горле — такой невероятно красивой я ее еще не видел. На ней были джинсы и под пальто — рубашка в красно-синюю клетку. Мне хотелось спрятать это совершенство красоты, скрыть за каменной стеной, чтобы ничто плохое не могло коснуться его. Мы шли под лучами предвечернего догорающего солнца, и, хотя еще не похолодало, Фиона все ежилась и обхватывала себя руками. У меня мелькнула мысль, что, как бы там ни было дальше, я всегда буду помнить этот момент — мы идем вдвоем от ее дома, я и Фиона, прекрасная как никогда, солнце светит нам в спину, город перед нами замер в тишине и неподвижности, будто Бог нажал на паузу и одних лишь нас это не коснулось.
Я спросил Фиону, как она, и она ответила, что все нормально, только вот «от одного дебильного братца отделаешься, так теперь другой туда же». Я сказал, что мне жаль, но она лишь плечами пожала.
— Вот ты, Дональд, — почему ты не такой придурок, а? Почему ты не хватаешь меня за задницу, не пьешь, не дерешься и вообще не ведешь себя как полный кретин?
— Потому что тогда мама меня просто убила бы, — честно признался я.
Расхохотавшись, Фиона снова взяла меня под руку. Мы пошли по Уоддингтон-роуд прочь от города, к реке. Дорога там поворачивает влево, потом вправо и наконец выходит к Ходдейлу, текущему по городской окраине и дальше, за пределы долины. По виду, правда, и не скажешь, что перед тобой водяной поток — он больше похож на обычную грунтовую дорогу, изгибающуюся среди полей. Даже когда мы подошли ближе, различить движение воды едва удавалось — таким медленным было течение. Преодолев перелаз через изгородь, мы зашагали вдоль берега.
— Ну же, Дональд, в чем дело? — нарушила молчание Фиона. — Что у тебя стряслось?
Не успела она проговорить эти слова, как позади нас через узкий мост с ревом пронеслась машина и завизжала на повороте покрышками. Чуть не подпрыгнув от неожиданности, мы обернулись, но увидели только виляющий из стороны в сторону удаляющийся зад машины. На мосту застыла женщина с дочкой — автомобиль, похоже, пролетел прямо рядом с ними. Девочка от пережитого страха разревелась, уткнувшись лицом в мамину юбку. Женщина тоже выглядела потрясенной, однако пыталась ободрить ее и увести с моста туда, где дорога расширялась и появлялся тротуар. Девочка не разжимала рук, женщине пришлось оторвать их силой, схватить ее в охапку и унести прочь. Убедившись, что они обе благополучно покинули мост, я подошел к краю воды, набрал камней и принялся со всей силы швырять их в реку.
— Все нормально, Дональд? — спросила сзади Фиона, последовавшая за мной. Я кивнул, не прерывая своего занятия.
— Ты какой-то напряженный.
Именно таким я себя и чувствовал — напряженным, сжатым как пружина. Слишком много энергии, и неизвестно, куда ее девать. Я, кажется, добежал бы сейчас в один дух до самого Клифтона — и не мог двинуться с места. Мне не хватало воздуха, меня постоянно как будто вот-вот должно было вырвать — то же ощущение боли, паники и желание покинуть собственное тело. Я хотел рассказать Фионе о случившемся в Клифтоне, о том, что я убил маленького мальчика и не сразу даже начал по-настоящему переживать из-за этого — ведь это вышло не нарочно, и мне сказали, что теперь он на небесах, вот я и успокоился. Хотел, чтобы она поняла — я не зарыдал, не завыл, не затрясся в истерике, когда узнал о его смерти, не потому, что я плохой; я просто не представлял, что наделал. Не мог представить. А потом мы сбежали оттуда, и мама не желала ничего вспоминать, и мы никогда не вспоминали, ни разу, ни единым словечком. А теперь, после стольких лет молчания, мне хотелось кричать о том, что случилось, пока не охрипну, хотелось пройти по главной улице городка, вопя: «Я УБИЛ РЕБЕНКА, Я УБИЛ РЕБЕНКА», снова и снова, пока все не услышат, пока не останется никого, кто бы не слышал. И еще меня тянуло рассказать Фионе о Джейке, поговорить с кем-нибудь о нем, о том, какой это замечательный мальчишка, но всем наплевать, никто как будто и не видит, что происходит. Однако самым большим моим желанием было поделиться с другим человеком, каково это — жить словно в скафандре, где ты заперт, не можешь двинуть ни рукой, ни ногой, и со временем тебя только сжимает и сплющивает, пока ты не превратишься в самую крохотную из сотни вложенных друг в друга матрешек, что спрятаны в коробке, похороненной глубоко под землей на заднем дворе дома, в котором никто никогда не жил. Мне хотелось рассказать Фионе, как мне плохо и что хорошо я не чувствовал себя уже очень давно. Я остановился и повернулся к ней.