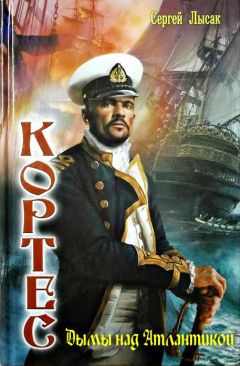Сойки между тем совсем обнаглели. Одна вспрыгнула на подоконник, прямо у меня под носом, и давай верещать, да так скандально! Птички-то красивые, орут больно противно.
— Ладно, ладно, Джасмин. Закрыли тему. Кыш! — Нахальная сойка суетливо вспорхнула, и я закрыл окно.
— Хорошо вы с Анной-Луизой съездили в Канаду?
— Нет.
— Как жаль. Но подробности придется отложить до вечера. Я уже опаздываю на работу. Когда ты вчера вернулся домой?
— В пол-второго.
Джасмин торопливо целует меня в лоб.
— Может, не пойдешь на первый урок? Да, у меня для тебя сюрприз. Угадай, кто едет к нам в Ланкастер?
— Кто?
— Мисс Франция. Твоя подружка Стефани, о-ля-ля!
— Да?…— сказал я, и голос мой дрогнул.
— Да-да. Я записала дату и время на доске у телефона. Она с подружкой, Моник. В Сиэтле они берут напрокат машину, немного покатаются сперва. Судя по голосу, она прелесть.
— Э-э… Хорошо.
— Вот и Анна-Луиза тоже рада будет с ней повидаться. Ты как думаешь? — Садистская пауза. — Мне надо бежать, пончик. Встретимся за ужином. Не забудь выключить кофеварку перед уходом. — Она подмигнула и закрыла за собой дверь.
Сейчас ночь.
Значит, Стефани заявится в Ланкастер. Господи! Я-то решил похоронить ее в себе, законсервировать навеки, как урановую руду. Я собирался оставить ее неразгаданной тайной, как — помните? — самолет ДС-10, обнаруженный в мексиканской пустыне: самолет нашли, а крылья нет. Ланкастер и Европа — эти две до поры самостоятельные, никак не связанные между собой планеты, вдруг взяли и надумали друг в друга вмазаться. Quel[11] пассаж!
У меня над головой Киттикатя барабанит лапками по крыше с неутомимой ласковой настойчивостью. Этой-то чего надо?
Так и быть. Расскажу про Европу.
Европа: едва приземлившись в амстердамском аэропорту «Скипхол», я понял, что попал в другой мир. Голландки все, как одна, по внешнему виду напоминали стюардесс, а голландцы — ведущих телеигр. Радующие глаз модерновые стальные проходы, по которым я катил свой багаж, направляясь к электричкам, связывающим аэропорт с центром города, пахли совсем не так, как можно было ожидать, а как навозные споры игрушечных чистеньких, будто из конструктора «лего», ферм, окаймляющих летное поле. Поджидая ближайшую электричку в центр, я теребил в руке фирменную бирку с крылышками и именем одной из наших стюардесс, той, у которой я ее выпросил в качестве сувенира для Анны-Луизы (ХЕЛЛО, МЕНЯ ЗОВУТ… Мисс, можно вас?). Уже тогда я начал смекать, что в момент, когда ты переступаешь порог Европы, тебе дают пару крыльев — не для того, чтобы взмыть в небо, а для того, чтобы улететь во времени назад.
Мои первые шесть евронедель, до знакомстза со Стефани, — какая-то сплошная мешанина впечатлений. Впечатления, но не отношения. Черные велосипеды; какие-то удивительные маленькие ягодки; вездесущее MTV; «умные» кредитные карточки; уродливая джинсовая одежда; отвязные итальянские ребята, paninari, на мотоциклах «веспа» в таких обалденных прикидах, что можно брать и сажать всех чохом в кутузку, не ошибешься.
Единственный, с кем я по-настоящему подружился в этот период, был Киви, новозеландец; мы с ним познакомились в мой первый вечер в Амстердаме в молодежном общежитии «У Боба» на Ньювезейдс Ворбургваль. Киви был лихой малый — теоретически подкованный, вечно небритый и понимающий толк в коктейлях уроженец города Данидин на острове Южном. Он являл собой исключение из правил молодежных каникулярных евродружб — дружб, базирующихся на принципе «взаимогарантированной одноразовости» (его, Киви, формулировочка), бессчетного множества отношений, завязывающихся между Сюзаннами, и Петрами, и Фолькерами, и Клайвами, и Мицуо, и Хулио, и Дэйвами — всеми, кто знакомится в европейских набитых поездах и обшарпанных молодежных общежитиях, где, кажется, всегда смутно улавливается запашок спермы и cafe au lait[12].
Как большинство студентов-евротуристов, вознамерившихся объехать Старый Свет на поездах, мы с Киви какое-то время путешествовали вместе, потом, достав друг друга до печенок, разбегались, порознь меняли то тут, то там наши деньги на очередную национальную валюту, потом в каком-нибудь новом городе снова сходились на недельку — каждый со своим уловом свежих историй и личных рекордов. Помню, как Киви орал мне, высунув сияющую рожу из окна вагона второго класса, который тормозил у перрона женевского Bahnhofа: «В Барселоне впервые переспал сразу с двумя!»
Всё новые и новые евролакомства, новые приключения: щекочущий нервы призрачный привкус возможной гибели в результате теракта, пока сидишь и в 99-й раз перечитываешь один и тот же номер «Интернэйшнл геральд трибюн» на миланском вокзале; шквал изобилия; холодящая кровь конфетно-красивая меланхолия городов, избежавших бомбежек во время Второй мировой, — Цюриха и Нанси; силуэты атомных электростанций на горизонте; квартеты обветренных, с моржовыми усами работяг, забитых, как сельди в бочку, в крохотулечные швейные машинки на колесах, — у каждого в зубах по одиннадцать сигарет зараз, все что-то орут, перекрикивая друг друга, и несутся куда-то, сами не знают куда, по закопченным, удручающе-безысходным чехословацким предместьям, в то время как позабытые ими женщины стоят на обочине, неподвижные, как рекламные «сигарные» индейцы в наших магазинах-«центовках». Все чужое: все очень мило, но, как я написал в открытке Анне-Луизе:
Европа страдает недостатком вероятности метаморфозы (во завернул!), Европа как дивной красоты младенец с суперхарактерными чертами лица, и потому красота его немного удручает: ты заранее можешь сказать, как младенец будет выглядеть в двадцать, в сорок, в девяносто девять. Никакой тайны.
И дальше на той же открытке кое-как еще втиснуто:
По-моему, у меня тут передозировка историей. Я как-то не могу до конца поверить в то, что ходить в церковь в попсовой одежде — это «грех». Многовато фейерверков под музыку «Роллинг Стоунз» в Монако. Многовато представлений son et lumiere[13]. И сверх всякой меры куполов и часовен, и людей, молящихся богам, о которых я ведать не ведаю, не говоря уже о том, чтобы их понять. Ощущение толчеи в первые несколько дней даже забавно, но потом от этого становится тошно, а все здесь так и живут, притиснутые друг к другу. Бр-рр! Больше всего мне хочется сейчас снова оказаться дома, где-нибудь на берегу океана, в большом стеклянном доме па краю планеты, на полуострове Олимпик, например, и просто смотреть вдаль на воду и больше ничего-ничего.[14]
Прежде чем отправить открытку, я показал ее Киви. Он со мной согласился: он тоже был не прочь оказаться в стеклянном доме на южной оконечности новозеландского острова Южный, так, чтобы между ним и Антарктикой не было больше ничего.
— Антарктикой? — переспросил я. — А ты знаешь, что Антарктика — это вообще-то не один, а два континента, которые соединены в одно целое ледовой перемычкой?
— Правда? Вроде как разведенные родители.
— Точно.
Вопрос: на кой меня вообще понесло в Европу? Честно говоря, то, что я попал туда, — уже чудо, учитывая, на какую уму непостижимую стену безразличия я наткнулся, когда вынес эту затею на суд друзей и родственников. («В Европу? Ничего не понимаю — зачем? У нас тут своя Европа под боком — нормальная Европа в ЭПКОТе, во Флориде. Тебя там что-то не устраивает? В чем дело-то?»)
Но у меня были свои причины. Помню, когда я толкал липовые часы, я все время думал, что интересно было бы взглянуть на те края, где делают настоящую «фирму». И еще мне хотелось самому поглядеть, что же это за мир такой, где моим предкам стало до того невмоготу, что они решились бросить его навсегда. И еще я слыхал от очевидцев, что в Европе можно классно оттянуться.
А вообще я помню, какой прогрессивной и стильной казалась мне Европа на фотоснимках: звенящие энергией и задором геометрические сооружения, словно гигантские кристаллы, рванувшие ввысь из монотонной каменной скукоты. Европа казалась мне тем местом, где будущее надвигается гораздо стремительнее, чем у нас в Ланкастере, а я люблю будущее — и решение было принято. Полный вперед!
Но через три недели еврошатаний налет европейской прогрессивности сильно потускнел. Европа тужится быть прогрессивнее всех, но все эти потуги как бы… короче, туфта. Германия, надо отдать ей должное, в смысле техники будет покруче любого CD-плейера, зато вокзальные сортиры — точь-в-точь пыточные камеры времен инквизиции. Во Франции слыхом не слыхивали, что магазины можно бы открывать и по воскресеньям. А в Бельгии я своими глазами видел, что северный скат камеры охлаждения атомной станции порос мхом — да-да, мхом. Прогрессивность?
Перебирая снимки, сделанные во время моего европейского турне, я вдруг замечаю одну любопытную тенденцию, в которой я не отдавал себе отчета, пока был там. Тенденция эта проявилась в том, что в мои европейские воспоминания, запечатленные на фотоснимках, тихой сапой пробралась разная американская корпоративная эмблематика. Американские «пицца-хаты» сияют неоновым светом за спиной у дуэта улыбающихся ширококостных австралийских училок по имени Лиз. Реклама ковбойских сигарет и фирменный фургон курьерской почты служат фоном для троицы потрепанных странствиями второкурсников из Онтарио. Логотипы компаний по выпуску фотоаппаратуры и компьютеров красуются на футболках путешествующих студентов Корнельского университета. Но самое сюрреалистичное — это «кола-тотемы»: цилиндрические, оклеенные бумагой рекламные тумбы, призванные имитировать банки с кока-колой, посреди дремотно-наркотического, загаженного пуделями, изрытого каналами Амстердама, где миллионы использованных игл погребены в толще оливково-зеленого ила под поверхностью воды и где по ночам высокие, узкие, как картонки с печеньем, дома, разделенные щелочками проходов, словно тают в черном небе. Странно, что, пока я сам там был, я этих эмблем и логотипов попросту не замечал, нигде, ни разу, но теперь, когда я снова дома, от них уже не откреститься, ведь это часть моих зафиксированных на фотобумаге воспоминаний.