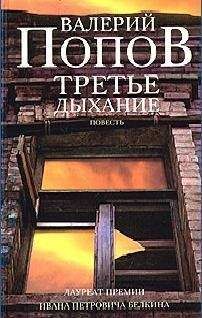– А! Пока еще тепло – в парке Интернационала, танцевальный павильон нам сдают. Вповалку спим, не раздеваясь.
– А хочешь тут жить? – показал на свой дом-ампир.
– Не! Со стариками я не живу! – даже не оборачиваясь, определила. По сбивчивому дыханию, видно.
– Тю, дура! Я сам такими не интересуюсь. Расселяют нас, полно комнат. Сюда давай.
Въехали, чуть согнувшись, под арку во двор. Окно бати сияет, источая мудрость. Флигель напротив – темен и пуст.
– Раньше жила дворничиха, – на то окно показал. Заселю по своему усмотрению.
– Так. – Анжелка ногой, прямо с коня, дверь приоткрыла. – Тут и
Ворон может стать. И топят, похоже.
– Очень даже может быть. Это у нас жилые не топят, а нежилые – очень даже может быть.
– Ну, клево. Слезай тогда. Раз так – бабок не надо. Мы девчонки глупые, но тоже понимаем, кто нам хорошее делает. Только ты и не думай! – обернулась воинственно.
– А я и не думаю! – С коня сверзился и враскоряку пошел. Теперь у нас такая походка?
Анжелка тоже спешилась, как мужичок с ноготок, коня под уздцы в дверь провела. Тугая пружина хлопнула. Что я думаю – сам не пойму.
Но что-то, видно, думаю, раз говорю?
К себе на кухню поднялся. Не зажигая света, уставился в то окно. Там зайчик по стенам заплясал. Анжелка осваивается. Зачем? Не такой уж я друг детей и животных – но как-то вмешаться в тот бред, что в том окне бушевал, обязан просто. Пусть Нонна что-то мое там увидит! Не так обидно будет погибать.
Б. У. Бред Улучшенный. Или – Ухудшенный. Поглядим. Во всяком случае
– хоть чуть-чуть Управляемый. В какой-то степени и от меня теперь зависящий. Или хотя бы мной сочиненный. Так что если вдруг по выходе моя супруга зарежет меня, то будет хотя бы частично ясно – за что.
Частичка моего тепла будет к этому делу тоже примешана… Пропадать, так с музой!.. А теперь – отдыхать.
Но, увы, отдых нее удался. Вдруг щелкнул выключатель, как выстрел с глушителем, и кухня вся озарилась, Анжелке на обзор. Морда моя в стекле отразилась. Сто шестнадцатая серия “мыльной оперы” понеслась!
Клин клином вышибают, бред бредом. Анжелка, рыбка моя, как ты в этом аквариуме?
Но вдруг вместо нее какой-то окровавленный вампир там! Что-то не то, получается, я сочинил? Растянулся огромный рот, два клыка показались. И понимал постепенно с ужасом, что не там он, а/ тут,/ за моей спиной! Вышел из-под контроля сюжет. Все силы свои собрал, развернулся… и на батю наткнулся. Чуть успокоился – и еще сильней ужаснулся: весь в крови и даже рубашка закапана. Где это он?
– Ты что, батя? – я пробормотал.
Он долго смотрел на меня, весь сморщась, обнажив клыки… других зубов не осталось. Где они?!
– А?! – вдруг произнес он, оттопыривая ухо.
– …Что с тобой?! – проорал я.
– К зубному ходил, – просипел он обессиленно. – Зубы вырвал… девять штук.
– Ну на хрена, отец? Делать, что ли, тебе нечего?
Мало проблем!
– Надо ж было разобраться сперва… посоветоваться… – пролепетал я.
– Но ты же обещал пойти со мной к зубному. И не пошел.
Опять я виноват.
– Ну ладно. – Он улыбнулся “ослепительно”, положил свою лапу мне на плечо.
Я положил на нее свою ладошку. Постояли так. Потом я открыл холодильник.
Без Боба я бы пропал! Конечно, Кузя, высоконравственный друг, осудил бы меня, что я к помощи “маргинальных слоев” приникаю. Но ведь сам же он и сосватал нас!
Кстати, Боб сам тоже недоволен был, когда я за помощью к нему обратился. Долго “пальцы топырил”, “крутого” изображал – злился, что в коммерческие тайны я лезу его. Да не нужны мне его “коммерческие тайны”! Мне деньги нужны! Что мне его моральный статус! Я и раньше догадывался, что не только очисткой Земли от гниющих сучьев занимается он. Однако именно он мне сгодился, при всей его моральной некрасоте не побоялся мне продемонстрировать ее, мою жизнь спасая.
Вагон “левой” карамели посадил меня сторожить на запасных путях.
Достойное занятие для меня нынче. Одевался соответственно… хорошо, что не выкинул старье. “Умный, ч-черт!” – как Нонна когда-то говорила. И когда старушка меня сменяла – прям так в больницу и ехал, в старье. Можно, конечно, было домой заскочить, переодеться… но зачем? Хватит, намодничались. Для теперешнего оно лучше. Вот так жизнь и падает. А ты думал – как?
Стас с первого раза не опознал меня. Опосля привык. Таперича так.
Входил в затхлую ее палату. Она теперь в основном, распластавшись, под капельницей лежала. Ставил минералку на тумбочку, фрукты вынимал. Забирал сгнившие. Не прикоснулась даже. Не реагировала на меня! “В лучшем случае” резко отворачивалась, с влагой в глазах. Я виноват? Из-за нее, можно сказать, сижу в холодном вагоне!.. но ей разве объяснишь?
Потом этот вагон карамели Боб успешно толкнул, но меня не бросил. На этих же путях посадил вагон просроченной виагры охранять, причем о просроченности честно сказал, чем обидел меня слегка… Что, если не просроченная, то не доверил бы? Впрочем, какая разница мне? Я сам просрочен. Мне уже /никакая/ виагра не поможет. Спал на упаковках ее, вольно раскинувшись, но сексуального оживления, обещанного ею, не уловил.
Стук в дверь вагона раздался. Старушка пришла меня сменить. Залезла, приняла все по описи. Бывают же деловые такие! Впрочем, что я -
“старушка”, “старушка”! Сам себя неверно оцениваешь – “старушка” эта моложе тебя. Это как раз ты – “старик”. Усвой это. Спрыгнул из вагона – и на бок завалился. Вот так!
Потер бок. По шпалам пошел. У огромного ангара депо в полутьме сварка сверкала – двое сваривали котел. Я знал уже – это печка для перемолотых сучьев, один из сварщиков – Боб. В масках и не узнать.
Впрочем, чушь говорю: движения у каждого свои. Вон Боб. Понял еще до того, как он рукой в рукавице мне помахал.
И я в больницу поехал. Привыкай. Это теперь ты дома – в гостях, а в больнице – дома.
У метро, возле ярких ларьков (после рельсов здесь все верхом роскоши казалось), постоял, размышляя, что надо купить. Блок сигарет… апельсины… Что-то еще! Ага! – радостно вспомнил. Туалетную бумагу!
Каждый раз там в ужас прихожу от растерзанной газеты, а бумагу все забываю купить. Вспомнил. Обрадовался. Теперь радуюсь столь простым вещам. Дожил! И это, понял вдруг, хорошо.
“Пять-шэсть штук” купить надо, порадовать ее. Вспомнит или нет любимую нами когда-то присказку – “пять-шэсть штук”? Отдыхали мы когда-то в Сухуми… осталось ли что от того дома с террасами, где жил маленький профессор Леван и жена его, могучая красавица Клара?
Все у них было – “пять-шэсть штук”. Даже в Ленинград нам перед нашим выездом звонили: “Купите шляп для Левана!” – “Сколько?” – спрашивали мы, радостно перемигиваясь. “Пять-шэсть штук!” И мы покупали, летели к ним. Счастливая жизнь под мандариновыми деревьями, над винным погребом. Когда покупали что-нибудь там, других слов не было. Порой до абсурда доходило – просто так уже веселились. Шли вдвоем в кино:
“Сколько билетов?” – “…Пять-шэсть штук!” – радостно смеялись. Но тогда все копейки стоило! Потянем ли сейчас? С туалетной бумагой – потянем! А там, глядишь, и счастье вернется. Помню, как шли вечером с пляжа, пересекая рельсы, сжатые с двух сторон буйной растительностью, над шпалами в темноте светлячки танцевали.
“Пять-шэсть штук”? Как же! “Пять-шэсть /тысяч/ штук”! Интересно, вспомнит или нет? Если вспомнит – выберемся!
– Так пять или шесть? – Продавец туалетной бумаги не понял меня. Не врубается! Да откуда ему?
По коридору с упаковкой радостно шел – и больные встречные улыбались: “Запасся дядя!”
Нонна распластанная под капельницей лежала – не поглядела даже на меня. Жахнул упаковку туалетной бумаги на тумбочку:
– “Пять-шэсть штук”!
Не реагирует! Не помнит уже ничего, в чем счастье наше было! Не выберемся!
На табуретку опустился. Упаковку порвал. Рулон вынул. “54 м” – напечатано крупно на нем.
– Вот! Пятьдесят четыре метра в каждом! Хватит тебе?
И вдруг она повернулась ко мне – и бледная улыбка появилась на ее сморщенных губах. Впервые! Все же вырвал ее из темноты!
Обратно приплясывая шел. Вот уж не думал, целую свою жизнь, что самая большая радость в больнице ждет!
Ночь я не спал, думал, вспоминал. Похоже, счастливые воспоминания о
Сухуми помогли ей. Надо помочь ей вспомнить себя. Ведь всегда из всех передряг выбирались и часто именно благодаря лихости ее, беззаботности. Не признавала забот… и они – отступали.
“Нисяво-о-о!” – восклицала бодро в самый завальный год, и действительно – “нисяво”, обходилось. Благодаря ей прожили легкую жизнь и с купчинских болот в эту квартиру на Невском перебрались, в самое красивое на земле место. “Нисяво-о-о!” Надо не исправляться ей
– поздновато это, а просто вспомнить себя. Элементарно. Именно такой стать, как раньше, и никакой другой. Слабость ее – это и сила ее.
Именно трогательная беспомощность ее и вдохновляла многих вокруг, вызывала у них, людей обычно жестоких, такой прилив доброты, что и мне порой перепадало. И, ее полюбив, все и себя начинали любить: вот, оказывается, мы какие хорошие с хорошими-то людьми! Праздник.