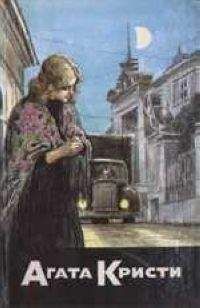Камский собрался было ответить, но почувствовал четкий, категорический запрет.
– Я хотел тебя предостеречь. Ты считаешь свое помешательство любовью. А это не совсем любовь, это внедрение. Ты насквозь заражен, у тебя в голове растет чудовищный одуванчик, да уже целое поле, представляешь – поле цветочков с лицами этой Эгле – и вытесняет… да тебя самого и вытесняет. И при этом она, сама девочка, не виновата. Она про тебя и не думала. И не будет думать. Если ты исчезнешь из ее жизни – она и не заметит. У этих прикрепленных, как правило, вообще нет потребности в людях… – проговорился Камский.
– Не понимаю! – расстроился Андрей. – Для меня Эгле – это как… ладно, смейся надо мной, смейся… как доказательство бытия Божья. Вот так. Ты не думай, что я дурачок. Но вот я слушаю, как говорят про Россию, да и про мир, про его будущее, и не понимаю – какое будущее, кто его будет строить. Ведь все грязные, грязные! Что мы построим, грязные – из грязи? Вот мы с тобой тут сидим: белые скатерти, лампы сияют, вроде как чисто-хорошо. Ты удивился, что я никакой еды не заказал, но я не могу ни в каких кафе и ресторанах есть. Мне кажется – и я думаю, что прав, – все тут надувательство, все мерзость, замаскированная тухлятина. И это так! Я читал книгу одного повара про кошмары на кухнях, а он еще европеец, а представляешь, что наши орлы вытворяют с пищей? И я всюду вижу эту замаскированную тухлятину – в телевизоре, на улицах, везде. Гнилое, подлое мясо. Ты сегодня шел по родному городу как иностранец, ты видел, что его сносят, оскверняют, что гнилому мясу плевать на красоту, на историю, на все, и ты пожимал плечами, улыбался! А эта девочка, как ты ее называешь, – она чудо. Чистое озеро среди помойки. Что-то невероятное, чего быть не может…
– Берегись, Андрейка, как друг тебе говорю, берегись искать небесной чистоты на земле. Ее здесь нет и быть не должно. Да никто и не требует. Нам всем надо как-то свой земной срок отмотать, желательно без криминала и поинтереснее, а какая еще тут чистота при таком способе питания и размножения? По-моему, мы, то есть люди, сделали совсем неплохую карьеру, если учитывать изрядные ошибки, которые наши архангелы допустили при сборке первой модели… Мы грязные! Что за сектантский вздор. Мы разные. И мяско мне принесли вполне приличное. И вино отличное, хоть я за него переплачу, конечно, впятеро. И концерт твоей Эгле был забавный, хотя девочка поет ахинею. Мне на самом деле больше всего глянулась эта голубоглазая сестренка твоя. Вот на такой мой Арбенин бы женился, да… Вообще неплохой был денек.
– Ты нарочно… – протянул Андрей обиженно, – нарочно, понимаю… Тебе противно, невыносимо видеть чистых людей! Нравственно чистых! Да, в грязи всеобщей есть такие люди, бескорыстные, талантливые, они светятся!
– Кого это мне противно видеть – Королеву Ужей? Она, по-твоему, нравственно чиста? Ой, дурила. Ну, знал я, что ты с большим приветом, но чтоб с таким… у тебя что, глаз нету? Да она, твоя Эгле, – ………………….. !
И Времин ударил Камского по лицу, опрокинув на стол бокал с красным вином и сметя на пол тарелку с приличным мясом, которое, будто оправдывая Жоржев эпитет, не выскользнуло из очерченных пределов.
Глава двенадцатая,
в которой Карантина и ее жизненные планы встречают препятствие и преодолевают его
Валентина Степановна делила все взрослое человечество на две категории: на тех, кому с детьми повезло, и на тех, кому не повезло. Своих она узнавала безошибочно. Ничто не могло наполнить блеском потухшие глаза, стереть невидимую корку с губ, отлепить от лица пелену несчастья. Замечала их сразу и старалась не смотреть, не конфузить. Больные дети. Пьяные дети. Умерли. Или в тюрьме… Как-то она узнала, что в России около миллиона заключенных, и охнула в душе – а матери, а жены, а сестры! У Тамары сын сидел по третьему разу, та в сердцах говаривала «лучше б умер», но нет, это было не лучше, типун тебе на язык, сердилась Валентина, и у Тамары в самом деле вскакивали язвочки на слизистой, но не в полости рта, а, так скажем, в месте несколько противоположном. Отчего подруга ругала Валентину «ведьмой недоделанной». Действительно, проклятья Грибовой сбывались как-то причудливо. Презренный Колька Романов, которому тысячу раз было говорено шею свернуть, обварил промежность – кипящий чайник развалился в дрожащих ручонках. Председатель-жадоба, коему уверенно сулила Грибова тюрьму, попал в нее не за то, за что надо было бы, а спьяну пристрелив товарища на охоте. Три года по неосторожности, а главное – без конфискации. Вот что обидно… Однажды, когда Валентина с Тамарой красили в Луге дом заведующего ремонтной мастерской, небогатый приятный домик типа «все-своими-руками», не вызывавший никакого классового раздражения, к нему приехали дочь, зять и двое внуков, все здоровые, все весельчаки в жену заведующего, хохотушку Надю, никто не болел, не сидел, не распутничал, нормальная семья, и красить-то позвали только потому, что у заведующего рука побаливала. А так бы сами обошлись. И Тамара с Валентиной перестали между собой разговаривать, старались побыстрей закончить, и чай-водку за компанию пить не сели, так невыносим был очевидный праздничный блеск на этих лицах. Повезло! Повезло с детьми! Другого счастья Валентина не понимала. Разве может что-то еще окрылить женщину?
Карантина выбрала неудачный день для важного разговора с матерью. В этот вечер Валентина Степановна натолкнулась на сюжет в программе «ЧП». Все, что в телевизоре было не придумано обдолбанными сценаристами, а взято из жизни, желания жить не вызывало. Этот сюжет тоже. Пьяная молодая мать, брошенная сожителем, прямо в кадре отказывалась от грудного ребенка, вопя, что «нечем кормить». Рядом с ней на диване (фоном был один и тот же ковер, всегда у всех бедняков один и тот же!) сидела пьяная бабка и возражала, все-таки пытаясь ребенка удержать. На дегенеративном, тупом лице матери не читалось ничего, а бабка была когда-то похожа на человека, но от водки тоже рылом окосела. Ребенок же был обычный щекастый кукленок, но с грустными какими-то глазками. Женщина-милиционер завернула его в одеяльце, унесла из квартиры, и вот когда несли отказника по лестнице, он крупно попался в кадр с этими своими глазками… «Ах ты мать твою мать! – заорала Валентина в злобе на саму себя. – Все горе ты, что ли, хочешь на себе дура перетащить, твою мать – какую мать, когда ты сама и есть та самая мать, больно, сволочи, что вы делаете, больно, твари пропитые, беспросветные вы твари, бесстыжие…» «…ммм…» – застонала Валентина Степановна и поняла, что обычным полстаканчиком на ночь сегодня не обойтись. Подкосил ее этот кукленок отказной.
А тут и Катька выползла. Ей бы посмотреть на тварей, на нее похожих, меж-прочим – нет, она все ток-шоу, сериалы про любовь. Семечек, орехов насыплет в салатницу и глазеет оцепеневши.
– Мам, поговорить надо. Ты как, в духе или что?
– Или что, – отвечала Валентина Степановна, шинкуя капусту. Она квасила одну бочку – больше за год не употребляли, оставалось, мал расход. Мала семья – бабка да внучка малахольная без аппетита.
– Мам, я про Нику. Тут такое дело… все хочу тебе сказать, а ты смотришь зверем. Когда мы с Никой в город ездили, на концерт…
– И так Верка с дуринкой, а по концертам ее таскать, совсем рехнется. Главное, есть в кого. Дуринков, Паша – папаша твой, сплошной понос в голове, да и ты не лучше, – машинально отозвалась Валентина.
– Там у певицы, которая главная, ну, которая нравится нашей Нике, дружок при ней. Андрей Времин зовут. Мам, он племянник Валерки.
– Ну и что? Ты про это не мечтай. Ты считай, что мужика похоронила. Он от тебя чуть не отстреливался, забыла, может? Отхватила как акула у него кусок из бока, и все, и успокойся. Если бы ты его женила, другой разговор. А так по любому счету он не должен ничего.
– А по телевизору показать?
– Что показать?
– Дочку. Так и так. Они песенки про вечную любовь поют, а детей своих бросают. Про семью сказки рассказывают, как они любят-перелюбят там друг дружку до усрачки, а сами такое же говно. Как все. Сейчас такие истории мигом всюду… Хоть на обложку в газету. Люди очень интересуются, кто это выпендривается, что он песни поет и весь такой романтичный, а что у него на подкладке – вот что! Взять и Валерке такую вот свинку и подложить…
– Ой, – положила сечку Валентина Степановна. – Ой, мама… Это ж она меня добить приехала. Била-била не разбила, теперь хвостиком махнуть – и добила. Это ты дочь на позор, меня на позор…
И Валентина Степановна опять взяла в руки сечку, внимательно посмотрев на Карантину.
– Видала? Убью. Позорить не дам.
– Да мама! Да что ты! Я не по-настоящему, а припугнуть. Не буду я ничего в телевизоре рассказывать. Я с него стрясти хочу на дочку. Дай средства, а то всем расскажу. Шантаж, понимаешь? А что делать, мама, что делать? Нике учиться в город ехать надо, квартиру снимать надо, одеться надо, за учебу тоже придется платить, не поступить ей на бюджетное. Она на дизайнера хочет… Она маленькая совсем, ничего не умеет, девочка. Мам, тебе шестьдесят восемь будет…