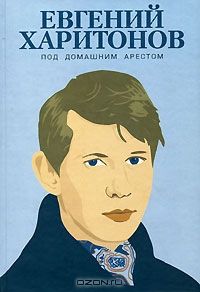Да, надо было что-то когда-то в каком-то возрасте преодолеть, залезть на брусья, не побояться сорваться. Но Боже мой, а как быть, когда потом такое восхищение перед теми, кто ничего не преодолел, не превозмог и осмелился остаться непреодолевшим! Какой он герой слабости!
Чтение сделало меня мечтательным; или, наоборот, несклонность к подвижным играм усадила меня в читатели и мечтатели. Во всяком случае, круг замкнулся. Я стал жить в мечте. А с возрастом прибавилось ещё и то, что надежды поубавились. И исчезли совсем.
Ой, как притягивает подушка. Так и тянет на неё прилечь.
— Здравствуйте, Диван Одеялович! —
Здравствуйте, Простынян Человекович.
Я додумался подсоединить звонок входной двери к кнопке возле подушки, и когда лежал в темноте, засыпая, и думал, сейчас придёт кто-то ко мне, незаметно нажимал на кнопку и в тишине на всю квартиру раздавался резкий звонок. Так я играл со своим сердцем, и оно, правда, замирало.
Надо заранее быть готовым к плохому и оно легче переживётся. Когда я был маленьким, я всегда, просовывая ноги в тапки, думал на всякий случай, что туда, может быть, забралась мышь. По крайней мере, если она там, не будет внезапного испуга. А если её нет, конечно, там её никогда и не было, думаешь, ну вот, слава Богу как хорошо. Но плохо, что всегда в душе готовность к мыши и нет безмятежности. И сейчас, снимая трубку, я готов к тому, что звонит следователь. И если нет, опять же, слава Богу. Для житейского спокойствия плохо, что в душе живёт следователь. А в христьянском чувстве так и надо, чтобы пожизненно быть подсудимым и не веселиться.
2 нелживых книги пишутся, мы пишем и они на нас пишут. Кухонные писатели, мы пишем в комнате и на кухне читаем гостям, а ещё более сокровенная книга пишется о кухонных писателях у них и хранится за 7-ю печатями, и её никто не прочтёт.
2 главных вопроса в этих книгах: кто виноват? и что делать? И 2 же на них ответа: никто не виноват, а, главное, ничего делать не надо.
Писатель должен хорошо представлять себе расклад сил в городе, чтобы его мечтало заполучить КГБ.
И вы уже услужили ему тем, что оно узнало о вас. Все, кем интересуется КГБ, уже есть его помощники. Раз оно вызвало, оно узнало хотя бы о вас же.
Но не надо думать, что если они, то и мы; ведь (что ведь?) А! Ведь они (им) нам (мы) — что мы? что нам? О!
Завтра опять этот позвонит (Тюрьмов).
Посадить, может быть, и не посадят, а в страхе держать должны.
Я подарил гитару Гуле, чтобы она свезла мои рукописи на Запад. И за это был наказан втройне, вдесятерне! И за то что подарил дарёную мне гитару, и за то что подарил не просто, а за то ч т о б ы она отвезла. И за это за всё во мне погиб певец. Я так и не выучился на гитаре играть и не выучусь никогда, потому что её теперь нигде не купить. И мне остаётся теперь навсегда писать только тонкую прозу, неинтересную юным простым сердцам. А песни любили бы все. Как Бог точно распорядился моей судьбой!
Во мне
погиб
певец.
(Карр! Карр!)
Нет, это всё не талант, что некий молодой человек может, поражая нас свободой, спеть или насочинять в момент ворох стихов. А талант это верность. Когда ничего не получается, но всё равно ничего другого в жизни делать не хочется, не буду, и пусть всю жизнь будет не получаться.
О, хотя бы один этот листок заполнить. Уж думаешь, в свете поставленной задачи, не чем заполнить, а только бы заполнить. Ещё три пятых страницы осталось. И я её не заполню. Только словами, что не заполню. Вот какая слабость (геройская). И никто моего геройства не поймёт. Будет ли разбирать кто-нибудь мои произведения? Да не будет. Нет, тут что-то большее, чем будет или не будет. Странный труд (подумали они про меня, видя, как я что-то записываю на листочке через паузы. — Эй, ты, на балконе, за Анютиными Глазками —). А лучше бы я о них что-то подумал. Уф. Слава Богу. Нет, ещё не слава Богу. Вот ещё две строчки допишем, тогда будет слава Богу. Теперь уже одну. Теперь уже половину одной. Теперь уже неизвестно сколько. Теперь уже всё.
Первые лет пять я писал одно стихотворение по месяцу по два; а один раз писал стихотворение полгода — и при том только им и занимался, не гулял, не отвлекался, а только полгода его сочинял и кое-как сочинил. И никому бы того не рассказал, что у меня всё с таким трудом выходит. А сейчас восхищаюсь, какие у меня были незаурядные задатки к усердию.
Ведь что происходило и продолжает происходить: я занимаюсь тем, что все время о чём-то думаю и передумываю; всё об одном и том же, об одном и том же; и только когда не об одном и том же, я это отмечаю и вставляю в сборники. Вот так, действуют только новости и свежести.
Я мышка. Я быстро-быстро бегаю, ищу сухарик.
Сколько наслоений, ненужных, отяжеливших за всю жизнь. А нужна незагромождённая, светлая, хотя и с заворотами, структура. А ещё нужны дети.
Итак:
он женился на женщине. И хорошо с ней жил. У них родились дети. И дети были хорошие. Они работали на полезной и интересной работе и не раз были отмечены по работе. Они помогали друг другу и любили друг друга. А Бог любил их. У них были друзья, собирались по праздникам.
А квартира разрушалась, не то что когда въехали.
Боже мой, как всё шатко. Как всё не может быть всегда.
Без положения, без связей куда определить сына. О, не в ПТУ же. Напр., сын не хочет учиться. Сын пошёл не по той дорожке. Сын неудачный. Мы с женой старались, чтобы он вырос, выучился, стал приличным человеком с высшим образованием, с хорошей профессией, а его затянули гуляния. Ну что с ним делать. После армии, может быть, опомнится, пойдёт в институт, приобретёт профессию. Только бы не свободным художником, поэтом, ещё бы этого не хватало, гением. Пусть живёт по-людски, это самое лучшее. Пусть чем-то увлекается умеренно, без крайностей. И пусть нам народит внучат, как мы будем рады.
А то я не народил детей и не порадовал (пока) своих родителей, пусть он не берёт с меня пример.
Я размечтался о карьере не-гения; а человека, порядочно делающего своё дело. Утилитарная эпоха требует специалистов. Да, детский писатель. И буду гордиться своими официальными успехами. А ещё, какая высокая участь: поселять милые мне настроения в тех, кто станет юношами, через речь. Ведь что было в детстве, делает из тебя потом взрослого. Как важны были для меня детские пьесы Шварца, чёрт с ним, что еврей (Бог с ним), с их мягкостью и забавностью, и сердечностью. (Только не Голые короли и Драконы против властей.) И Гайдар, и Маршак. И такое утилитарное дело не постыдно. Дети будут в моих руках. И будут говорить моими словами.
Слабые мальчики (и девочки), распустите, пожалуйста, слух, что я тиран. И я вас буду любить.
Итак,
его мама одинокая женщина, курит, превыше всего для неё любовь, бывают такие немолодые женщины и даже матери единственного сына, хотят показать свободу взглядов, думают, что вот она не как все и это её красит — да, я не как те матери, я все, мол, понимаю, пусть он тоже будет не как все, главное, мол, свобода и любовь, не всё ли равно к кому, да, пусть к мущине, ну, мол, и что, а я вот женщина, которая курит и всё понимает, и ложится не раньше 3-х часов ночи. (Ужас, до чего глупо. Мать должна быть уздой.) Так вот-с. У неё юный женственный сын, и я, например, — да, прихожу к ним и ночую, и мы с матерью прямо в сговоре, мать рада, что у её сына такой приятный мужчина. Мы с ней советуемся, что с её сыном делать, чтобы не сбился с пути. Чтобы у мальчика всё было хорошо. Я ей, прям, как зять. И с сыном у неё втайне от меня свой женский сговор, как, мол, надо вести себя с мущиною. Прямо даёт ему гинекологические советы, достаёт ему лучший вазелин. Нет, мазь Гаммелиса; противовоспалительное и расслабляющее сфинктер. Просто не мать и сын, а две подружки. А ещё мы с тёщей решили на семейном совете, что мальчику надо решиться. На этот шаг. Я бережно повёз его к настоящему хирургу. В Венгрию. Мы с матерью страшно волновались. Но всё кончилось хорошо. А высушенную отрезанную вещь я стал носить в медальоне на память о нашей жертве.
1. «Он бил меня и учил всему. А потом отдал грузину и тот делал со мной что хотел. О, с мущинами надо уметь себя вести. Мне в этом деле не было равных. Они после меня не хотели уже никаких девушек, так я умел их расшевелить. Я знал у мущины каждый нерв и умел на нём играть, так что он стонал и терял сознание. И я мог просить от него всё, что хочу. Хоть звезду с Кремлёвской башни. Он ёб меня до крови, до потери сознания и выучил всему — и я теперь за это ему благодарен, потому что дальше мне в моём искусстве не было равных. Как он меня учил? Он бил меня, если я не кончал вместе с ним. И если кончал, тоже бил. Но я навсегда выучился кончать, когда в меня кончает мущина. Как-то он избил меня всего хуем с оттяжкой. Оттянет хуй (стоячий) и каак треснет, залепит пощёчину, или по носу, я только жмурился как котёнок. Он научил меня откликаться только на женское имя. И в душе и в теле сознавать себя ею. Он никогда меня не спрашивал, хочу я или нет, он властно брал меня за голову и сдвигал себе в ноги. А потом опять бил. Это уже те, кого я потом обслуживал, сходили с ума, целовали и кусали мне эту дырочку, в которую так любили залазить своими гнусными колбасами. А этот был настоящий мущина, только бил меня и учил. И ещё сам заставлял меня приносить ремень, чтобы я покорно спускал с себя брюки и ложился перед ним кверху попкой. Вот была моя школа. Дальше началась жизнь по этому диплому. О ней вы всё знаете.»