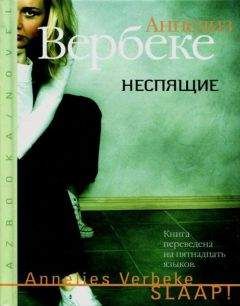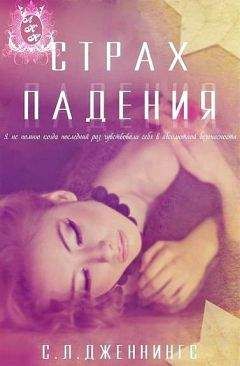— По-твоему, это что-то вроде состояния блаженства?
— Нет, это просто ноль.
Да уж, странную тетку я здесь встретил. Но она была великолепна. Если б мы не были под стражей, я бы на ней женился.
— И давно ты увлеклась цифрами?
— С тех пор как научилась считать.
— И как тебя здесь лечат?
— Когда я сюда попала, я была очень несчастна. Но здесь меня научили считать наоборот, и теперь я чувствую себя намного лучше.
— Наоборот?
У меня возникло приятное предчувствие, ожидание какого-то ответа.
— Три, два, один, ноль, — сказала она.
Я подскочил, словно мячик, и начал натягивать брюки. Она молча, не отрываясь, на меня смотрела.
— Собирай скорей свои шмотки, пошли, — сказал я. — Я знаю код, как отсюда выбраться.
Она покачала головой, продолжая сидеть в кровати.
— Три, два, один, ноль! — воскликнул я. — Я просто уверен!
— Я хотела сказать, что никуда не пойду.
Она не хотела. Я плакал и умолял, вставал перед ней на колени, но она не хотела. Она чувствовала, что здесь ее место. Ее все устраивало. Ей было жалко, что я ухожу, но идти со мной она отказывалась. Уверяла, что не меньше шестидесяти раз в сутки будет обо мне вспоминать и не меньше четырех раз в неделю видеть меня во сне. Я слышал, как она напоследок считает мои шаги. «Пуск!» — раздался где-то голос азиата. Я тихо прикрыл за собой дверь.
* * *
Я вернулась в дом, который уже не был моим. В коридоре стоял детский велосипед, на лестнице на второй этаж валялись игрушки. В гостиной, которая вся пропиталась смачным болотистым уютом, я чуть не задохнулась. Посреди гор из кукол, обрывков бумаги и разноцветных подушек сидела Силке (ну и имечко!) и таращила глаза на мои волосы, отросшие на два сантиметра, изучала мой шрам, мои очки и мою трость. В следующую минуту она протянула ручки к маме, та подняла ее с пола и, к моему ужасу, стала шептать ей на ухо: «Поцелуй тетю Майю».
Чтобы избежать очередной неловкости, я стала пролистывать дальше интерьерный каталог. Мой взгляд упал на забавную люльку в фольклорном стиле, в которой посапывал младший отпрыск. Себастьян, разумеется! Надо сказать, это был красивый ребенок, он вполне подошел бы для рекламы подгузников. При виде меня он громко и радостно заагукал, и меня вдруг словно накрыло: я с улыбкой вытащила его из пеленок. Когда я прижимала к себе этот маленький розовый комочек, мне почему-то вспомнилась газетная статья, в которой рассказывалось о том, что некоторые трясут малышей до тех пор, пока не наступит их смерть. Также сообщалось, что подобных случаев отмечается все больше и больше. Словно прочитав мои мысли, как это умеют делать одни только груднички, Себастьян разразился громким ревом. Софи поспешила забрать у меня ребенка; для этого ей пришлось опустить на пол второго, который в свою очередь разревелся.
Чтобы подавить собственные слезы, я сосредоточила все свое внимание на кошке. Та прошла от своей щедро наполненной миски к спящему пекинесу Софи и бессовестно улеглась к нему под бок, при этом злобно на меня поглядывала и, похоже, думала: «Ради меня могла бы и не возвращаться!»
Вот какой прием ждал меня дома — просто улет! И ни одной комнаты, где можно выплакаться, предаться своим токсикоманским наклонностям или танцам под оглушительную музыку. Меня поразило, что даже собственную постель мне теперь придется делить с сестрой. Со временем она обещала что-нибудь придумать, но пока все будет так. Ей требовалось всего тридцать секунд, чтобы заснуть. Облака ненависти клубились в моем неспящем мозгу. Плевать, что она платит за меня аренду, придется ей выметаться! С детьми, с люльками, с собакой, кошкой и плюшевыми игрушками прямо на улицу!
Но тут Софи обняла меня одной рукой, потому что относилась к категории людей, которые даже во сне обязательно должны кого-нибудь обнимать. Я хотела стряхнуть ее руку, но не стала этого делать, потому что отношусь к другой категории — тех, которые уже забыли, как их кто-то обнимает.
Бывали и другие хорошие минуты. Например, когда я рисовала какающую лошадь для ее дочки, а та, хоть и считала это смешным и неприличным, шла с этим рисунком к маме, и та говорила, что на такие вещи нельзя смотреть перед едой, но ей это тоже почему-то нравилось.
Я научилась растягивать свой ночной сон до пяти часов, с помощью лекарств разумеется. Утром покупала батон и газету. Во время приготовления кофе или какао я просматривала объявления о вакансиях. Большинство из них были занятные, некоторые — просто уморительные. «Если административная работа — ваша мечта…» — гласили огромные буквы одного из них. Это придало мне хорошего настроения на целое утро. К полудню мне стало казаться, что это и вправду моя мечта, что административная работа — моя мечта. Ваша жизнь будет просто восхитительной, если административная работа — ваша мечта. Весь день можете заниматься ею сколько угодно — вам даже платят за это! — а пройдет всего несколько часов, придете домой и начинайте все с начала: сортируйте и оплачивайте счета, теперь уже свои собственные. Если это и есть ваша мечта, то у вас не жизнь, а малина!
В тот вечер, сидя возле экрана телевизора, мы с племяшкой во все горло распевали: «Дин-дон, тру-ля-ля, тилли-тилли-тилли!» Ноздри щекотал доносящийся с кухни запах здоровой овощной пищи. Два этих обстоятельства вместе привели меня в состояние крайней безмозглости, которое показалось мне прикольным. Я села перед своим компьютером и аккуратно набрала резюме на трех языках на имя страховой компании «Фёйлстейке и Тиммерманс» (уже мысленно предвкушая, как буду по сорок раз в день курлыкать в трубку это длиннющее название). «Администрация — это моя мечта. L’Administration, с’est mon rêve, Administration is my dream»[32]. Я хихикала даже на следующее утро, когда опускала письмо в ящик. Через два дня мне позвонили. Я могла приступать сразу же, никакого специального образования не требовалось. «Языками вы владеете, вот и замечательно, до завтра». И я вышла на работу, с одной стороны, от скуки, а с другой — потому что вдруг осознала, что, раз мне не дают больше пособия на бирже, то мне понадобятся деньги. И еще потому, что я решила попробовать жить как все.
Я выдержала всего месяц. Это была кретинская работенка. Я вбивала цифры в клетки, отправляла неинтересные письма незнакомым людям, варила кофе для шайки сорвиголов, с которыми сидела в одной комнате, и задавала себе каждую минуту вопрос: «Что я тут, господи боже, забыла?» Целый день пялиться на газон было бы и то интересней! Собственно, ничего иного я и не ждала, но адаптироваться не смогла, еще потому, что через пару недель сделала одно потрясающее открытие. Когда гордость фирмы, король страховщиков, поддавшись вдруг вспышке ярости, попытался удушить шнуром от принтера кудахтающую бухгалтершу, я поняла: все мы тут сумасшедшие! Но легче от этого мне не стало.
Я каждый раз садилась на трамвай и ехала в сторону больницы. Мне еще требовались упражнения для ноги, да и Ольга по-прежнему там лежала. С каждым днем ее выдуманные болезни принимали все более конкретный облик. Ее глаза все сильнее проваливались, ей нужно было все больше времени, чтобы подняться. Пробелы в ее памяти становились все обширней. Я делала вид, будто не замечаю, что наши с ней игры не клеятся. Я позволяла ей всегда начинать первой. Я разрешала ей жулить.
— Моцарт.
— Тутанхамон.
— Че Гевара.
— Ольга, имя должно быть на «н».
Она смяла пальцами один из тюльпанов в букете, который передала для нее Софи. Ее брови, обычно вздернутые, сошлись на переносице, образовав глубокую морщину.
— Начнем с начала, — сказала я. — Мартин Лютер Кинг.
— Грюйер, — пробормотала она после долгого молчания, не отрывая взгляда от цветов.
— Ольга, но ведь это же сыр! — возразила я чуть громче, чем хотелось бы.
— Нет, это у меня сырная башка[33], Магда.
Она скрестила с моим взгляд своих ярко-голубых глаз, и все слова стали лишними.
— Этой ночью ко мне приходил наш Сва. На нем была свежая сорочка, он плеснул мне в стакан немного антверпенского ликера, как раз тут, на этом месте, возле моей кровати. Он хорошо выглядел, я всегда первым делом смотрю, как он выглядит.
Она несколько раз сглотнула.
— Вы с ним о чем-нибудь говорили?
— Он сказал, что пора переходить на пончики. И еще на пирожки с яблоками. Я с ним согласилась.
Комок в горле мешал ей говорить — об этом свидетельствовал легкий румянец, покрывавший ее щеки и шею.
— Бери коляску, поедем курить, — наконец произнесла она.
Я помогла ей пересесть в инвалидное кресло и выкатила его в коридор. На лужайке перед зданием больницы мы стали смотреть на больных и на проносящиеся мимо машины. Я все думала, что бы ей сказать: что-нибудь человечное, что-то такое, чтобы она почувствовала, что я ее понимаю. Но машины все неслись и неслись, а больные все сидели и сидели.