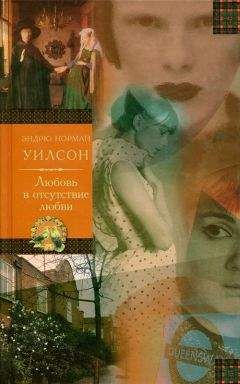Сейчас он был охвачен чувством, что хотел бы… — нет, больше чем хотел, был вынужден — все бросить. Невероятно! Пусть это мечта, блажь, временное помешательство, от которого он быстро избавится, как от кошмара. Он слишком привык к размеренному течению своей жизни, к своему благополучному, замкнутому мирку, и хотя на него порой накатывало желание начать все сначала, перемены его пугали. Хотя всем казалось, что Саймон тверже характером, чем его брат, он никогда не имел Бартлова мужества (или желания?) порвать нить, которая привязывала его к Сэндиленду и компании «Лонгворт и сыновья». Вся его жизнь — теперь он это отчетливо понимал — была неразрывно связана с делом его отца. Даже отношения с Ричелдис были частично подчинены цели наплодить продолжателей семейного бизнеса — маленьких лонгвортят. А как же Любовь? О, он действительно тешил себя надеждой. Песенки вроде «Однажды чудным вечером» всегда заставляли его сладко замирать, втайне он был уверен, что однажды встретит незнакомку, и знал… Бог его знает, что он знал, словами не опишешь. Но каждое утро он просыпался теперь со стоном, потому что понимал, что это с ним-таки случилось. Он встретил свою незнакомку. Он двадцать лет любил Ее, и теперь она предлагала ему Истинную Любовь.
Он привстал, опершись на локти, оглядел комнату. Родительская спальня. Хорошее место для раздумий… Плебейский вкус Ричелдис тут развернулся в полную силу. Саймон никогда не обращал внимания на то, как живут другие. Реставрированный Уильям Моррис,[27] образчики Либерти,[28] и над всем этим — Лора Эшли,[29] казались ему излишествами, а вовсе не неким социальным феноменом. С его точки зрения, это было не что иное, как желание Ричелдис лишить мужа последних ниточек, связывавших его с детством.
Он тосковал по стеганым подголовникам, тумбочкам возле кроватей. Куда-то исчезли розовые абажуры в форме колокола с шелковыми кистями, кануло трюмо с полукруглым зеркалом, массивный гардероб с зеркальной дверцей, в которую он подглядывал, как его мать затягивала себя в корсеты из китового уса и розовые пояса-грации. Он лежал под теплым одеялом на кровати, которую привезли из магазина с идиотским названием «А теперь в койку», и смотрел на единственную сохранившуюся вещь, напоминающую ему о детстве. Вещь не ценную, но дорогую по воспоминаниям. Большая акварель, на которой была изображена площадь Святого Марка в Венеции, висела над дверью спальни.
Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щелку просунулся нос Маркуса.
— Заходи, заходи.
Малыш неторопливо прошел на середину комнаты и уселся на пол, положив рядом пластмассовую рыбку.
— Эмма сказала, что еще совсем рано, — мрачно изрек Маркус.
— Рано, милый, рано.
— Томас спал, пока я не показал ему свою рыбку.
«Интересно, что сказал Томас», — подумал про себя Саймон, но промолчал. Вряд ли старший брат счел рыбку серьезным поводом для того, чтобы его будили.
— Иди сюда, посиди…
Отец прижал к себе малыша, готовый откусить себе язык за те злые слова, что вырвались у него в Париже. Простодушие Маркуса, «игрушечный» разгром в комнатах — во всем этом присутствовала уверенность в незыблемости этого мира, в том, что мама, отец, брат и сестра, Мадж и даже Бартл — были, есть и будут, и так будет всегда. Саймон подумал о старшем сыне, Даниэле, который сейчас был в Канаде. Чудный парень. Что было бы, если бы он, вернувшись в Англию, узнал, что отец ушел из семьи?
— Я еще к Белинде заходил, но она сказала, что спит, но если бы она спала, то разве могла бы мне ответить? — Маркус рассмеялся. — Жюль ее обнимал.
— Правда, малыш?
— Почему он носит серьги?
— Понятия не имею.
— Мама носит серьги.
— Иногда.
— Обычно тетеньки их носят и иногда мужчины… или…
— Что?
Раздался хохот, прежде чем Маркус выдал умозаключение, которое сделало бы честь самому Сократу:
— А Жюль — женщина?
— Нет, конечно.
Ричелдис принесла кофе, поставила его на столик, распахнула окно. Всех обдало морозной свежестью, запахом хвои и осенних листьев.
Бартл торопился поскорей закончить утреннюю службу в Патни, предвкушая свидание со Стефани Мосс. Она никогда не рассказывала о том, как провела выходные, а он был слишком ревнив и робок, чтобы о чем-то ее спрашивать. Иногда, когда она была свободна, Бартл мчался в Восточный Хэмпстед или Стеф сама приезжала и тогда они отправлялись на прогулку. На этой неделе барышня была свободна. Сама позвонила и предложила встретиться, но оказалось, что не может Бартл. Он уже пообещал Мадж отвезти ее в это воскресенье в Сэндиленд. Но не повидаться со Стефани было мало того, что само по себе ужасно, так еще он испугался, что она обидится. И тогда он не увидит ее Бог знает сколько времени. Однажды она уже пропадала на пару месяцев, он чуть с ума не сошел. Конечно, она вернулась в конце концов. Впрочем, сегодня вроде не было повода думать, как бы он провел день, — если бы ему не предстояло провести время с Мадж.
Было холодно. Надо надеть куртку, подумал он, торопливо прихлебывая кофе.
— Я думала, ты уж никогда не… — Миссис Круден тщетно пыталась подобрать слово. Вид у нее был сильно так себе: халат — явно не первой свежести, голова — не причесана, похоже, она даже не удосужилась умыться. На плите стояла кастрюлька, в которой варилось одинокое яйцо.
— Служба, — только и сказал он.
— Ну-ну, конечно, как же, как же, сэр. Знаем, знаем… Я старался как мог… — Она явно подражала выговору кокни.
— Вы не забыли, что мы сегодня обедаем у Ричелдис?
— Ночная месса… — вспомнила она… Слово нашлось. Неважно, что совсем не то слово, главное, она его вспомнила. — Разумеется, я ничего не забыла, потому и удивлялась, с чего бы это ты… Так…
— Сейчас только без десяти девять.
— И?
— Добираться нам час. Если мы выедем хотя бы в одиннадцать, то даже торопиться не придется.
— Как у тебя все непросто…
Она всегда курила, когда пила кофе. Бартл поморщился. Он не выносил запаха дыма во время еды.
— Не люблю Сэндиленд, — вдруг проговорила она. — Никогда не любила. Я вам не Джон Бетжемен.
Она говорила о доме, в котором Бартл вырос. Он тоже никогда не любил его. Временами просто ненавидел — вместе со своим отцом и всем, что как-то было связано с семьей, — так яростно, что единственным способом не совершить какого-нибудь преступления казалось бегство. Чаще всего в такие моменты он думал о Багамах. Что бы ни было причиной, но, сколько Бартл себя помнил, в доме постоянно царил разлад. Поначалу он не задумывался, почему так ненавидит то, что олицетворял этот дом: гордость за успешное ведение дел «Лонгворта и сыновей»; мысль, которую отец пытался вдолбить всем, — о необходимости делать деньги из песка, как делает уже несколько поколений; престижные колледжи для отпрысков богачей, «ягуар», джин, гольф-клуб. Никаких видимых причин для протеста вроде бы и не было. Бартл всегда придерживался левых взглядов. Теперь, оглядываясь в прошлое, он радовался, что его осенило уйти в церковь. Приходской священник в роли управляющего фирмой «Лонгворт и сыновья»? — Бред! Он не ставил себе целью оскорбить родных своим выбором. Просто у него было призвание! Это оправдывало все. Порой возникали моменты, когда он ощущал его с такой силой, что впору было податься в монахи. Правда, на кафедру богословия в Йеле он не пошел, но следовать по стопам отца было уж совсем невмоготу.
В ту пору у него не было никаких сомнений, что на все есть воля Божья. Но, постепенно утрачивая девственность сознания, Бартл стал задумываться о судьбе Сэндиленда. Родители умерли. Саймон занял отцовское кресло, впрочем, не сильно преуспевал. Бартла это почему-то не удивляло. Шестидесятые годы перевернули все с ног на голову, даже деньги. Инфляция, или как это там называется? Бартл ничего не смыслил в этих делах. Потом появилась какая-то стабильность, или как это называется — мелкие фирмочки стали сливаться в крупные компании. «Лонгворт и сыновья» потеряла «сыновей». Бартл был даже рад, что отец не дожил до развала. Он всегда подозревал, что братец не чаял выпихнуть его из семейного бизнеса, впрочем, это его мало волновало. Он был рад, что получил свою долю наследства, сумма была по тем временам бешеная: двадцать пять тысяч фунтов стерлингов. Саймон кинул ему их, как кость надоевшей собаке. Впрочем, Бартл ни на что никогда не претендовал. Что тоже не могло не влиять на его отношения с женой. Они потратили эти двадцать пять тысяч фунтов стерлингов на покупку дома: халупа халупой. Оформили на Веру. Она объявила о своем уходе к Кейту только тогда, когда дом был полностью отремонтирован и обставлен. Ее можно понять, искренне думал Бартл.
Забавно — если бы все сложилось иначе, он бы не жил тут в Патни и не возился с Мадж, которая в данный момент курила уже третью сигарету и пила Бог знает которую по счету чашку кофе. Ее вдруг потянуло на воспоминания; сначала она заговорила о Лилиан Бейлис, потом незаметно перешла на театральные истории. К театру Мадж была неравнодушна всегда. В ту пору она восхищалась Антоном Долиным… «Даже просто одним глазком взглянуть на него — и то было счастье. И так забавно. Как-то раз меня пригласили на „Щелкунчик“ — волшебный балет, должна тебе сказать, голубчик, — потом был банкет, множество вкусных вещей, и, ты представляешь, сам Долин был там, и сэр Фред, и Гилгуд.[30] Я подошла к нему и сказала, что хоть мы и не представлены друг другу, но я не могу не признаться, что восхищаюсь им еще со времен его выступлений с мисс Бейлис в Елизаветинском театре. „Разве мы не знакомы? — удивился он (Мадж блестяще копировала речь Гилгуда), — но, прелесть моя, о вас все только и говорят“. В итоге выяснилось, что он был знаком с Эриком еще в тридцатые годы, мы чудно поболтали; он изумительный рассказчик, и про партнершу свою рассказывал, про эту мисс Бейлис, у нее еще рот кривой».