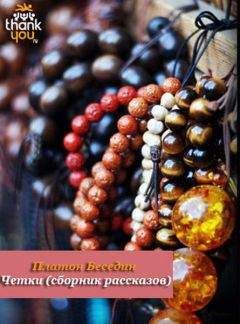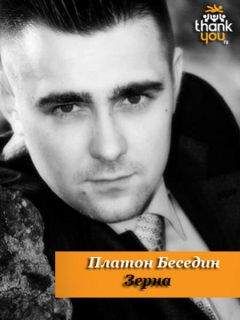Во мне вдруг что-то вспыхивает, взрывается, и заряд яростного отчаяния наполняет всю меня. Я святое отмщение женщин. Я поруганная честь сирых и убогих. Я воспаленный нарыв справедливости. Кто тот человек, за которого меня будут принимать?
— Хочешь меня трахнуть?! Да, Хамин?! — ору я, брызжа слюной. — Да!?
— Да, — эта фраза стоит ему усилия.
— Тогда давай! Здесь, Хамин!
— В смысле? — он пятится назад.
— Ты же выучил урок! — Я надвигаюсь на него. — Теория без практики — ничто!
В его глазах паника. Словно он стал другим. Не властелином — рабом. Я не смотрю на класс. Слышу только их шёпот. Чувствую, как они замерли в ожидании развязки.
— Хочешь знать, брею я или нет?!
Я сбрасываю юбку. Остаюсь в одних трусиках, обесцвеченных от постоянных стирок. На моей шее пульсирует жилка, бьётся, как агонизирующее животное. Я ложусь на учительский стол и одним движением стягиваю с себя трусики. Резко раздвигаю ноги.
— Так целка я, Хамин?!
Беру его сжатый кулак, разгибаю средний палец и ввожу в себя. Он закрывает глаза, потеет и дрожит. От первого же его движения я испытываю чудовищной силы оргазм. Испускаюсь, изливаюсь вся — криками, потом, нектаром.
Его улыбку стёрли. Словно залили воском лицо. Он смотрит на меня, потом на парализованный шоком класс и вдруг — характер! — решается. Скидывает штаны, потом стягивает трусы и обнажает себя.
У него пенис взрослого мужчины, но сейчас он выглядит нелепым рудиментарным образованием; уродливым, лишним, как нарост на дереве. Я касаюсь его рукой, и он изливается. Не спермой — мочой. Обсыкается, как щенок; перед всем классом.
Я смотрю в его влажные глаза, в них, будто в сломанной раковине, стоят слёзы. Он тяжело, с надрывом дышит. Грудная клетка колесом ходит под кремовой рубашкой. В его расширенных зрачках отражается моя пиррова победа. Он проиграл.
— Садись на место, Хамин! — Говорю я, натягивая трусики и юбку. — Два!
Я никогда прежде не видел писателей,
и они казались мне несколько странными
и даже какими-то ненастоящими.
С. Моэм «Луна и грош»
Все великие поэты в сборе. Я верховожу.
Местечко, конечно, не шик-блеск-красота, но вполне себе приличное кафе. Говорят, что его держит жена Мити Кузнецова. На это, кстати, и живут. Пока Митя пишет свои нетленки, ожидая серьёзного контракта с издательством. Пишет, надо сказать, исправно. Вот уже двадцать лет. Это примечание для тех, кто спрашивает, для чего Мите жена, если он никак не пройдёт маршем по Москве.
Мне быть сегодня конферансье. Объявляю первое выступление вечера:
— Анастасия Тимофеева.
Анастасия выходит на сцену чётким солдатским шагом. Поправляет галстук, широко расставляет ноги и начинает читать стихи хриплым мужским голосом.
Нектар любви! Твои поганые ресницы
Очаровали навека. Моя ты, сука-проводница…
Тимофеева заканчивает оду железнодорожной любви, и раздаются жиденькие хлопки. Надо сказать, Тимофеевой безбожно завидуют. Ещё бы: у неё три литературных премии и четыре изданных сборника стихов. Сплетничают, что ради одной премии ей даже пришлось переспать с председателем жюри. Глядя на мужеподобную Тимофееву, верится в это с трудом, но о вкусах не спорят.
Тем временем на сцену взбирается Зинаида Аскольдовна Веббер. Осёдлывает высокий барный стул. На ней, как всегда, широкополая красная шляпа. Собственно, на этом её гардероб ограничивается. Стихи для Зинаиды Аскольдовны — фон. Главное — её эротик-шоу. Лет тридцать назад оно выглядело ещё ничего, но сейчас зрелище не для слабонервных.
Пупсик мой сладкий,
Как сок убиенных детей,
Твои душонки падки
До неги бархатных плетей.
Тут Зинаида Аскольдовна, впадая в экстаз, пытается повторить знаменитое движение Шэрон Стоун из «Основного инстинкта», но годы уже не те, и её скрючивает. Под злобные смешки она, сгорбившись, покидает сцену.
— Дотрахалась!
Выкрик принадлежит поэтессе Потаповой, толстой краснолицей бабе, пахнущей рыбой. Потапова давняя ненавистница и соперница Зинаиды Аскольдовны. Соперничество их идёт ещё с советских времён, когда обе они заседали в Президиуме Союза Писателей, ездили на курорты и собачились за мужиков. Виной тому зависть, но вот какая: бабская или профессиональная — сказать сложно.
Зинаиду Аскольдовну мне по-человечески жаль. Помню её пьяный монолог: «Публикации, премии, а что в итоге? Корешки книг да последствия венерических…». Сколько таких, возложивших себя на ложе, а после на алтарь литературы?
Я так крепко задумываюсь о поэтических судьбах, что забываю объявить следующих выступающих, впрочем, приглашения им не надо.
Глаголет, брызжа слюной, патлатый Антон Козырев, лауреат какой-то там премии. Величина! Колотит себя в грудь, трясёт головою, и перхоть крупными белыми хлопьями падает с его сальных нечёсаных волос. Его просят заткнуться, но он либо увлечён, либо не понимает, потому что читает он на украинской мове, а просят его по-русски. Он брызжет:
З вашого дозволу,
Я буду німим,
Щоб викладати
Те, що створено сліпим,
Коли він звав небеса,
Побачив
Довгі, іржаві ліса.
Все ясно:
Сила ерекції
Більше не дорівнює
Якості селекції.
Я всё же усмиряю Козырева и приглашаю на сцену Фёдора Незабудкина. Его не просто издают, а издают за чужой счёт. Есть слушок, что ещё и покупают.
Незабудкин приглаживает восковую плешь, где, по его предположению, колосится пышная шевелюра, и начинает, сильно картавя. Пишет он на двух языках. Чтобы наверняка: и нашим, и вашим. Стихи у него гениальные. Во всяком случае, так говорят.
Читает стихи он всегда с улыбкой, броской, как свежий шрам. Улыбка его чрезвычайно ехидная, из серии «Хер вы что поймёте!». Да и не всем дано. Ведь не зря Незабудкин велик! Сам Пестиков его заметил и, забухав, благословил. Пестиков, кстати, тоже здесь: как всегда дремлет в первом ряду.
в душе фибры натянуты венами
если хочешь — прыгай
в рай то есть на хер
перестань марать гавном стены
а я брошу грызть сахар
нам пора расстаться
После Незабудкина выступают провинциальные поэты, исключительно лауреаты премий и конкурсов. Например, у Саши Сукнова — «Виноградная лоза» Третьих Бахчисарайских чтений, Петя Молочай — лауреат Международного фестиваляв Бердянске «Вопль на лужайке-2010», Лесь Костюк — лауреат «Еврейской премии». Куда ни плюнь, — Козырев, правда, всех уже оплевал, — одни лауреаты. Премий нынче, слава Богу, на всех хватает. У каждого лито своя премия. Как писал Сукнов, «где три поэта собраны во имя литро, там создано будет очередное лито».
Великих провинциалов много. Все они пасутся на веб-кладбищах текстов и периодически выезжают на фестивали. А когда выезжают, то, спев отходную печени, с порога заявляют о своём величии. Сомневаться в этом не приходится, ибо если гении тщеславны, то гениальности в провинциалах — за год не съешь.
Каждое выступление для них — явление миру мессии. Поэтому стараются они — будь здоров. Одни корчатся в судорогах, другие режут вены, третьи ссут на карбид.
Самое яркое шоу утатуированного Дамира Максимова. В прошлый раз он, правда, переборщил. Не все поняли его месседж с разбрасыванием искусственных фекалий. Москвич Синяков, например, по пьяни решил, что в него мечут натур-продукт, а потому в отместку наклал в пакет и вывалил его содержимое на обидчика.
Сегодня Максимов скромнее, хотя номер с четвертованием кролика не затерялся бы и на концерте Мэрилина Мэнсона. Он держит его за уши и сипит:
Поэт в России больше, чем поэт!
Он благодарен даже за минет…
От провинциалов всегда устаёшь особенно сильно, — уж больно стараются! — поэтому, объявляя заключительное выступление, я выдаю из подсознания:
— Понимаю, что все устали от стихов, но сейчас прошу сконцентрироваться… Михаил Конев, дамы и господа!
Аплодисменты в зале раздаются приличные. Конева уважают, потому что не уважать себе дороже: ведь он не просто поэт, а ещё и издатель. Хорошие отношения с ним — возможность публикации. Дружба — её гарантия.
Правда, сдружиться с Коневым не так просто: человек он серьёзный, деловой, держится всегда сам по себе, как павлин, попавший в курятник. К лести равнодушен, к взяткам глух. Цену себе знает. К извечным «ах, какой вы, Михаил Алексеевич, гениальный, светоч вы наш» и «читали давеча ваш журнал — восхитительно» привык. Послать на хер, который он считает метафизическим стержнем своей поэзии, — для него любимое дело.