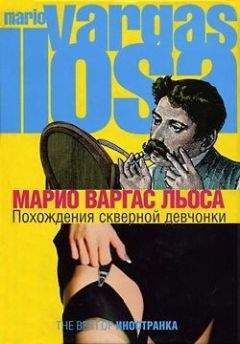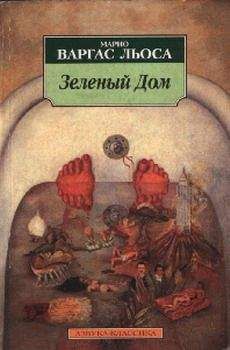– Меня долгое время не было в Париже, я работал в Вене, потом в Риме – целый месяц. И теперь хотел бы пригласить вас с супругой на ужин, в любой из ближайших вечеров, когда вам будет удобно.
Месье Арну продолжал молча смотреть на меня и вдруг сильно побледнел, вид у него был отчаянно несчастный, и он кривил рот, словно ему трудно говорить. У меня задрожали руки. Неужели он сейчас скажет, что жена его умерла?
– Ах, так значит, до вас новость еще не дошла? – проговорил он сухо. – Или ломаете комедию?
Я растерялся и не знал, что ответить.
– Весь ЮНЕСКО уже в курсе, – добавил он совсем тихо, с горькой усмешкой. – Я стал посмешищем для всей нашей конторы. Жена меня бросила, и я понятия не имею, ради кого. Подумывал уже и о вас, господин Сомокурсио.
У него сорвался голос, прежде чем он произнес мою фамилию до конца, и дрожал подбородок, мне даже почудилось, будто он стучит зубами. Я выдавил из себя, что очень сожалею, что я, конечно, ничего не знал, и стал снова, как последний дурак, объяснять, что, мол, целый месяц отсутствовал, работал в других городах, сперва в Вене, потом в Риме… Я распрощался, не услышав от месье Арну ни слова в ответ.
Новость была совершенно неожиданной, и я был до такой степени потрясен, что в лифте почувствовал приступ тошноты и, едва двери открылись, побежал в маленькую туалетную комнату, расположенную в коридоре, и там меня вывернуло наизнанку. С кем и куда она убежала? А может, до сих пор живет со своим любовником в Париже? Меня еще долго преследовала мысль, что те два дня, которые она решила мне подарить, были прощанием. Чтобы потом я сильнее тосковал. Так хозяин швыряет собакам объедки, Рикардито. После нашего мимолетного разговора с месье Арну дни потянулись черной чередой. Впервые в жизни меня стала мучить настоящая бессонница. Ночи напролет я лежал, обливаясь потом, пяля глаза в темноту, сжимая в руке зубную щетку «Герлен», которую отныне держал на тумбочке как амулет. Я лежал и пережевывал свои ярость и ревность. Утром вставал совершенно разбитым, тело сотрясал озноб, мне ничего не хотелось делать, не хотелось есть. Врач посоветовал попить нембутал, но и с ним я не столько спал, сколько проваливался в беспамятство. Я совсем раскис. Просыпался в тревоге, в голове громоздились всякие планы, чувствовал себя словно с жуткого похмелья. Я последними словами клял себя за то, что несколько лет назад, повел себя как законченный идиот и отправил ее на Кубу, поставив нашу с Паулем дружбу выше своей любви. Удержи я ее тогда, сейчас были бы вместе, и жизнь моя не превратилась бы в сплошную бессонницу, дикую пустыню, поток тупой ярости.
Выйти из состояния медленного душевного распада мне помог господин Шарнез, предложив месячный контракт. И я готов был на коленях благодарить его за это. Монотонная работа в ЮНЕСКО оказалась лучшим лекарством, и я начал понемногу справляться с кризисом, в который ввергло меня исчезновение бывшей чилийки, бывшей партизанки и бывшей мадам Арну. Как, интересно, зовется она теперь? Какое имя, какую историю, какую личность придумала себе на новом жизненном этапе? Очередной любовник – наверняка очень влиятельный человек, куда до него советнику генерального директора ЮНЕСКО, теперь уже слишком незначительному для ее амбиций. Поэтому она его растоптала, смешала с грязью. Что ж, в то последнее утро она откровенно меня предупредила: «Навсегда я осталась бы только с человеком очень богатым и сильным». Я был уверен, что на сей раз мы расстались окончательно. Что ж, Рикардо, ты должен смириться и забыть перуаночку с тысячью личин, заставить себя поверить, что то был всего лишь дурной сон.
Но через несколько дней после того, как я вернулся на работу в ЮНЕСКО, ко мне в кабинет явился месье Арну собственной персоной. Я трудился над докладом, посвященным двуязычному образованию в странах Африки в зоне Сахары.
– Я хотел бы извиниться за то, что встретил вас не слишком вежливо, – начал он не без некоторого смущения. – У меня было ужасное настроение.
И пригласил поужинать с ним. Я, конечно, понимал, что этот ужин катастрофическим образом подействует на мое душевное состояние, но любопытство и желание узнать, что же произошло на самом деле, оказались сильнее здравого смысла. Я принял приглашение.
Мы пошли в ресторан «Chez Eux»,[36] расположенный в Седьмом округе, неподалеку от моего дома. Это был самый неприятный и тягостный ужин в моей жизни. Но и безусловно важный, потому что я многое узнал про экс-мадам Арну, узнал, как далеко она зашла в поисках жизненной стабильности, гарантию которой, по ее убеждению, давало только богатство.
В качестве аперитива мы заказали виски со льдом и перье, потом – красное вино и еду, к которой ни один из нас по сути так и не притронулся. В этом ресторане было фиксированное меню, составленное из деликатесов, которые подавались в особого рода кастрюльках, и наш стол постепенно заполнялся изысканными яствами – паштетами, улитками, салатами, рыбой и мясом, – и все это изумленные официанты уносили почти нетронутым, чтобы освободить место для разнообразных десертов, причем одно блюдо являло собой нечто, плавающее в кипящем шоколаде. Они никак не могли взять в толк, почему мы пренебрегаем такой роскошью.
Робер Арну поинтересовался, когда я познакомился с его бывшей женой. Не так давно, соврал я, году в 1960-м или 1961-м, в Париже, когда она готовилась к отправке на Кубу – МИР послал некоторых своих членов в тренировочные лагеря.
– То есть вам ничего не известно о ее прошлом, ее семье, – кивнул месье Арну, словно разговаривая с самим собой. – Я всегда знал, что она меня обманывает. По крайней мере, когда речь заходила о ее родителях и детстве. Но я находил этому оправдания. Мне казалось, что она лгала, потому что стыдилась среды, из которой вышла. Происхождение ее, надо полагать, было самым незавидным, так ведь?
– Понятия не имею. Она редко касалась этой темы. Вернее, вообще никогда и ничего не рассказывала про свою семью. Но я совершенно уверен, что она из самых низов.
– Меня все это страшно огорчало, я легко могу себе представить, какой клубок социальных предрассудков опутывает перуанское общество: родовитая знать, презирающая простолюдинов, расизм, – перебил он меня. – Якобы она училась в «Софиануме», лучшей монастырской школе Лимы, где воспитываются только девочки из высшего общества. Якобы отец ее был хозяином хлопковых плантаций. Якобы она порвала со своей семьей из идейных соображений, решив пойти в революцию. Господи, какая там революция! Подобные дела ее ничуть не волновали, это я быстро понял! За все время нашего знакомства я не слышал от нее ни слова про политику. Она согласилась бы на что угодно, лишь бы вырваться с Кубы. Даже выйти за меня замуж. Когда мы оттуда уехали, я предложил ей побывать в Перу – чтобы познакомиться с ее семьей. Она, разумеется, наплела с три короба: мол, раз она была членом МИРа и ездила на Кубу, ее, как только она сунется в Перу, тотчас арестуют. И я прощал ей любые выдумки. Объяснял их какими-то комплексами. Просто она успела заразиться предрассудками – социальными и расовыми, – которые так сильны в латиноамериканских странах. Поэтому и придумала себе подобающее прошлое – девочки из аристократической семьи.
Иногда мне казалось, будто месье Арну забывает о моем присутствии. Взгляд его терялся в какой-то далекой точке, а голос делался таким тихим, что я едва разбирал произносимые шепотом слова. Потом он вдруг снова возвращался на землю и смотрел на меня с недоверием и ненавистью, добиваясь признания, что я, разумеется, знал про ее любовника. Мы ведь с ней соотечественники, приятели, так неужели она никогда со мной не откровенничала?
– Нет, таких тем мы никогда не касались. И сам я ничего подобного не подозревал. На мой взгляд, вы отлично ладили и были счастливы…
– Я тоже в это верил, – прошептал он, опустив голову. Потом попросил принести еще бутылку вина. Взгляд его затуманился, голос стал глухим. – Зачем она это сделала? Зачем? Это некрасиво, грязно, нечестно по отношению ко мне. Я дал ей свое имя, из кожи вон лез ради того, чтобы сделать ее счастливой. Рисковал карьерой, стараясь вызволить с Кубы. Чего мне это стоило! Нельзя же быть такой неблагодарной! Сплошная расчетливость, сплошное притворство – это бесчеловечно!
Он внезапно замолчал. Только шевелил губами, но при этом не издавал ни звука. И его маленькие квадратные усики то кривились, то растягивались в линеечку. Он так крепко сжимал в руке стакан, словно решил раздавить его. Глаза налились кровью и стали влажными.
Я не находил, что ему сказать. Любое утешение прозвучало бы в моих устах фальшиво и смешно. И тут у меня мелькнула мысль, что подобное отчаяние вряд ли вызвано одним только бегством жены. Было что-то еще, чем он и хотел со мной поделиться, но не решался переступить некую черту.
– Все мои сбережения, все, что я накопил за долгую жизнь, – прошептал месье Арну, глядя на меня с укором, как будто именно я был виновником трагедии. – Понимаете? Я, мягко говоря, немолод, поздно начинать жизнь с нуля. Понимаете? Она не только изменила мне невесть с кем, скорее всего, с каким-нибудь гангстером, но они наверняка вместе и задумали всю эту аферу. Да, она не просто сбежала, но и прихватила с собой деньги с нашего швейцарского счета. Я хотел показать, до какой степени ей доверяю. Понимаете? У нас был общий счет. На случай, если со мной что-то произойдет, – допустим, я скоропостижно скончаюсь. Ведь налоги на наследство могут сожрать все, что накоплено тяжкими трудами всей жизни. Ну кто мог вообразить такую низость, такое вероломство? Она поехала в Швейцарию, чтобы сделать очередной вклад, и забрала все, все – я остался ни с чем, я разорен. Chapeau, un coup de maître![37] Она ведь знала, что я не могу никуда пожаловаться, а если сделаю это – выдам себя с головой, погублю свою репутацию, потеряю работу. Знала, что, если я обращусь в полицию, мне же будет хуже, потому что у меня имелись тайные счета, я укрывал доходы от налогов. Они все отлично спланировали! Но как она могла отплатить такой жестокостью за любовь? От меня она получила столько хорошего, столько любви, я обожал ее.