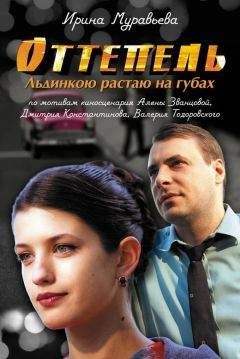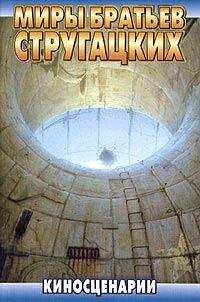Ознакомительная версия.
В это же утро Федору Кривицкому, копчик которого упорно не хотел восстанавливаться в своем первозданном виде, а ныл, и болел, и мешал режиссеру, пришла в голову шальная мысль покинуть самовольно больничную палату и, пользуясь теплым временем года, удрать из больничного парка в пижаме, взять такси и обрушиться на голову родного «Мосфильма» как гром среди ясного неба. Кривицкий обрушился. В такси он почти лежал на заднем сиденье, стонал, пугая молоденького водителя, и скреб непослушный свой копчик рукою, а в студию вошел прямой, неподкупный, прекрасный и гордый. Пижама сидела на нем как доспехи.
В кабинет Пронина Семена Васильевича Кривицкий прорвался без стука, отодвинув ладонью перепуганную секретаршу. Пронин разговаривал по телефону, при виде Кривицкого большого удивления не выразил и указал ему рукою на стоящее рядом с его столом кресло.
— Садись, я сейчас.
Кривицкий, однако, остался стоять.
— Садись, говорю! В ногах правды нету! — Пронин опустил трубку на рычаг. — Ну, что возвышаешься как небоскреб? Мне что? Тоже встать?
— Нет, сидите! — сурово разрешил Кривицкий.
— А что ж ты в пижамке? Болеешь еще? А может быть, все пиджаки свои пропил?
— Семен Васильевич! — взревел Кривицкий. — Я этого безобразия не потерплю!
— А кто тебе набезобразничал? — прищурился Пронин.
— Мне все донесли! Вдвоем я ни с кем не снимаю!
— Ах, вот как? А стоя ты можешь снимать? В больничной пижамке, у всех на виду?
— Я вам повторяю: вдвоем не снимаю!
Верхняя половина лица директора «Мосфильма» стала огненной, нижняя мертвенно побледнела.
— Ну, ты у меня доиграешься, Федор!
— Я вам не мальчишка, я лауреат — вы помните?! — Сталинской премии! Я и до министра дойду! Я ей все, я все расскажу ей про ваши дела!
— А я расскажу ей про ВАШИ дела! Про то, как вы пьяным ломаете копчики! Про то, как два года назад в пьяном виде поймали в столовой стажерку! При всех! И тыкали в задницу ей кукурузой! Кричали, что там кукурузе и место!
Пронин отер лицо носовым платком.
— Идите, товарищ Кривицкий, болейте.
Кривицкий, разумеется, обратно в больницу болеть не поехал, а решил лично проверить, как начались съемки, в какой форме оператор Хрусталев, второй оператор Полынина, помощник режиссера Регина Марковна и все остальные. Хрусталев в это время был в двух шагах от «Мосфильма». Марьяна еще спала, когда он проснулся, осторожно поцеловал ее в ключицу, стараясь не шуметь, сварил себе кофе и, оставив ей на столе записку, поехал на работу. В записке было три слова: «Дождись, пока вернусь». Она позвонила бабушке и наврала, что Светка подвернула ногу, нужно помочь ей добраться до поликлиники и сделать рентген. Сколько часов это займет, неизвестно. Бабушка поахала. Марьяна выпила чаю с засохшей сайкой и принялась ждать его возвращения, листая какие-то книжки на полке. Из одной выпорхнула, словно она была птенцом, вдруг почувствовавшим силу своих крыльев, небольшая фотография. На фотографии совсем молодой Хрусталев крепко обнимал за плечо совсем молодую Ингу, лицо которой Марьяна сразу же узнала, поскольку два года назад оно было на афишах очень модного художественного фильма «Альпийский стрелок». Хрусталев обнимал ее так же крепко, как он обнимал Марьяну, и Инга смотрела вперед так, как смотрят любимые, гордые этой любовью и сытые ею, счастливые женщины. Марьяна осторожно вложила карточку обратно, подошла к окну и прижалась лбом к стеклу. Он ведь говорил ей, что был женат. И про дочку говорил. Но эта фотография все перевернула. Одно дело: знать, что он был женат. Другое дело: увидеть, как любимый, обожаемый тобою человек нежно смотрит на постороннюю женщину и обнимает ее за плечо.
Нельзя сидеть здесь, как овечка, и ждать, пока он придет и повалит ее на эту тахту, стягивая с нее платье. Должна же быть гордость. Но вместо гордости Марьяна чувствовала только боль, и такую сильную, что если бы можно было сейчас умереть или погрузиться в какой-нибудь летаргический сон, она бы решилась на это. Закрутив волосы на затылке и застегнув часики, мельком взглянула в зеркало. Ей показалось, что это не она, а кто-то чужой, раздавленный колесами грузовика, смотрит ей прямо в глаза, и у этого чужого ни на что нет сил, а нужно спуститься, дойти до автобуса, доехать сначала к метро, сесть в метро, и люди везде, люди, люди…
В восьмом павильоне «Мосфильма» кипела работа. Регина Марковна восседала на стуле, величественная и строгая, как императрица Екатерина. Хрусталев возился с камерой, насвистывая джазовые мотивчики и ни на кого не обращая внимания. Осветители, как всегда, негромко переругивались. Рабочие сцены, дыша друг на друга перегаром, жаловались, что опять чего-то не завезли. Егор Мячин, исполняющий обязанности режиссера, прогуливался по площадке, погруженный в свои мысли, и не замечал, что все собравшиеся ждут от него самых решительных действий. Хрусталев, наконец, не выдержал:
— Егор! Начинай! Все устали.
— Сейчас, подожди.
Прошло еще по крайней мере десять минут. На лице Хрусталева появилось раздражение, и Регина Марковна начала встревоженно приподниматься со своего кресла. Осветители, устав от ругани, зевали широко и сладко, как собаки, разморенные полуденным солнцем. Но вскоре послышался смех, потом очень нежное: «ах, ах, что вы?», и на пороге выросли двое: сухощавый, в белой заграничной рубашке, Геннадий Будник и миниатюрная, только что накрашенная и напудренная, в рабочем комбинезоне и алой косыночке на голове Оксана Голубеева.
— Наверное, все нас заждались! — сияя улыбкой, заговорила Оксана Голубеева. — А мы проторчали в гримерной. Так вы сейчас наш режиссер? — Она обратилась к Егору и одновременно шаловливо помахала рукой Регине Марковне и осветителям. — Вы будете пробы снимать?
Мячин, не отвечая, вперил в нее неподвижные глаза, как будто стремясь влезть Оксане под кожу. Будник перехватил его взгляд:
— А это Марусенька наша, Егор! Уже и в костюме, уже и в платочке!
— Марусенька? — удивился Мячин. — Вот эта Марусенька?
— Давайте я лучше спою, — защебетала Оксана. — Вы сразу поймете, что я подхожу.
— Ну, пойте, — сказал режиссер равнодушно.
Легче лани Оксана взбежала на возвышение, где уже красовались грубо подмалеванные русские березы, с листвою настолько зеленой, что резало даже немного глаза, потуже затянула на голове косыночку и запела:
Она не хочет ехать в тот колхоз!
И это странно, очень странно!
Ведь это родина его, и он там рос,
Там развивался многогранно!
Тут она всплеснула руками, словно ее неожиданно осенила какая-то веселая загадка:
Может, там его зазноба
Или первая любовь?
— Стоп! — сказал Мячин и вплотную подошел к Оксане Голубеевой. — Вы почему все время то улыбаетесь, то смеетесь?
— От радости, — сузив глаза, ответила Голубеева. — Ведь мы же комедию будем снимать?
— А слышите вы, что поете?
— Прекрасно все слышу, — четко ответила Голубеева, и хищный огонь загорелся в ее глазах. — Пою свою песню. Веселую песню.
— Веселую? — вдруг взревел Мячин. — А что там веселого? У вашего возлюбленного в деревне может оказаться другая женщина! Чего веселиться? Я не понимаю!
— Егор! — Регина Марковна замахала руками. — Товарищ режиссер! Тут не должно быть прямого соответствия между словами песни и настроением героини! У нас ведь условная правда!
— Условная правда? — и Мячин весь взвился. — Такой НЕ бывает! И все зарубите себе на носу! И вы зарубите себе на носу! — Он чуть было не хлопнул по нежному носику Голубеевой. — Такой НЕ бывает!
— Еще как бывает! — пробормотал Хрусталев, однако за Мячиным наблюдал с интересом. — Эх, молодо-зелено!
— Вы поете о том, что женщина мучается сомнениями! — почти визжал Мячин в лицо Голубеевой. — Он развивался «многогранно» — это ирония! Не поняли разве? Он не развивался многогранно! Он босыми ногами в колхозе грязь месил! Он вставал в четыре часа утра! Он матери-вдове помогал! Вот правда! Она НЕ условная! А вы все хохочете? Попробуйте думать! Вы слышите? Ду-у-умать!
Не успела Голубеева ответить разъяренному стажеру, не успела Регина Марковна, уже подскочившая было к Егору, заставить его замолчать, как в павильон широкими шагами вошел Федор Андреич Кривицкий, одернув на себе пижамную полосатую куртку так, как певцы одергивают фрак, выходя на сцену.
— О, господи! Федя! — помертвела Регина Марковна.
— Что здесь происходит? — у Кривицкого сдвинулись брови.
— Как Наденька там? Как дочурочка, Федя?
— Нормально! — ответил Кривицкий. — Я, кажется, всех вас спросил: «Что здесь происходит?»
— Сквозняки у нас, господи! — и Регина Марковна сделала знак ассистентке, показывая, чтобы она принесла что-нибудь Кривицкому, дабы уберечь его от сквозняков. — У нас все нормально. Стажер вот. Пока вы в больнице, так он помогает…
Ознакомительная версия.