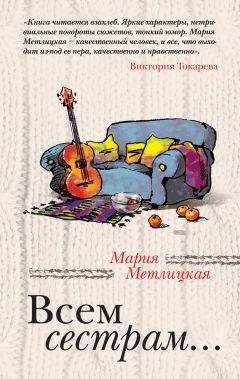Ознакомительная версия.
Кира приезжала к ней раз в месяц – привозила деньги. Иногда Мадам просила прихватить по дороге продукты – хлеб, молоко, что-то по мелочи. Зимой она из дома не выходила – боялась упасть. Иногда они пили чай на кухне, и Мадам показывала фотографии Мити и его семьи. В Америке у Мити был красивый дом с бассейном, стройная американская жена и двое мальчишек. Кира вглядывалась в фотографии детей – обычные здоровые и озорные дети. Ничего настораживающего.
«Четверо детей, – думала Кира. – Четверо абсолютно здоровых детей. Господи, слава богу! Природа оказалась к Митьке милосердна».
Мадам привязалась к ней – часто звонила, часами рассказывала про болячки и просила Киру не забывать ее. Когда деньги кончились, она позвонила Мите и сказала, что теперь от обязательств свободна.
Он благодарил:
– Да, да, Кирюш, спасибо, буду отсылать деньги по почте.
А Мадам продолжала звонить. Она уже вошла в Кирину жизнь, и ничего нельзя было с этим поделать. Кира продолжала к ней заезжать – что делать, такой характер. Ругала себя на чем свет стоит – но продолжала к ней ездить. Последний раз отвезла ее в больницу – две недели назад.
Кира достала из шкафа нижнее белье и стала перебирать платья. Выбрала темно-зеленое, в желтых ромашках, любимое платье Мадам. Все сложила в пакет и вспомнила о документах на захоронение. Когда-то Мадам показала ей, где лежат все бумаги – в старом Митином «дипломате» в темной комнате.
Она нашла этот портфель и стала перебирать бумаги. Какие-то старые счета на квартиру, редкие письма от родни, Митин школьный аттестат – в общем, обычная бумажная белиберда. А потом увидела выписку из больницы. На Митиного отца. Старую, пожелтевшую, замятую на сгибах. Причина смерти – прободная язва. Сопутствующие заболевания – хронический бронхит, пиелонефрит, гипертония. Никаких намеков на душевную болезнь. Консультация невролога и психиатра – практически здоров. По их ведомству – ровным счетом ничего. Ни-че-го. Значит, Мадам ее тогда обманула. У Мити – четверо абсолютно здоровых детей, у нее – ни одного. Она одна как перст на этой земле. А Мадам не нашла времени покаяться, попросить прощения за ее, Кирину, поломанную жизнь.
Кира долго сидела в кресле, час или два. Потом встала, открыла записную книжку Мадам и принялась обзванивать знакомых. Кого-то не было дома, кто-то ссылался на болезнь, а кто-то просто говорил, что не считает нужным прийти и попрощаться.
– Значит, опять я, – сказала она вслух и глубоко вздохнула. – Значит, опять я, больше некому.
Она взяла пакет с вещами Мадам и вышла из квартиры.
В понедельник, в девять утра, она стояла в больничном морге в зале прощания. Мадам лежала в гробу – величественная и грозная. «Теперь тебя никто не боится, – подумала Кира. – Никто! И я в том числе. И мое прощение уже вряд ли тебе нужно. Хотя кто знает».
Она подошла к Мадам и положила в гроб шесть белых гвоздик.
«В конце концов, многое мы делаем для себя. Исключительно для себя», – думала Кира.
В зале зазвучала траурная музыка.
Она провожала Мадам в другую жизнь.
Мы знаем друг друга сто лет. Или больше. Знаем друг про друга даже то, что, в общем-то, ни к чему.
Мы сидим на балконе в ее парижской квартире и пьем красное вино 2003 года. У нас есть тема: Катькина дочь Алька выходит замуж. Впрочем, темы у нас есть всегда.
Итак, Алька выходит замуж. Да еще за кого, за графа! Событие эпохальное, что говорить. Мы ждем Альку, а пока ее нет, обсуждаем жениха и будущих родственников. А там есть что обсудить. Граф-папа, графиня-мама. Родственники. Катька хрипловато смеется: семейка давно обеднела, но изо всех сил стараются держать «лицо» – семейный замок, балы, приемы… Заодно папа служит нотариусом, а мама держит свой магазин.
Сын, он же графский отпрыск и будущий муж, хорош собой (даже слишком, говорит Катька), прекрасно воспитан и изыскан. Все от него без ума, считается, что Альке крупно повезло.
Катька посмеивается, щурит от солнца свои прекрасные бирюзовые глаза, закидывает голову и смахивает рукой набежавшие на лицо волосы. Знакомые жесты. Я смотрю на Катьку и понимаю, что ближе человека на земле нет.
Распахивается входная дверь, и на пороге появляется Алька. Она бросается ко мне, и мы долго обнимаемся. Она целует меня по-парижски – три раза, не снимая пальто, плюхается в плетеное кресло и начинает громко верещать. Я смеюсь над ее акцентом и любуюсь ею.
Глядя на Альку, я постигаю каноны современной красоты. У Альки узкое лицо, высокие скулы, чуть узковатые и удлиненные к вискам глаза, широковатый короткий нос и крупный, слишком крупный, красивый рот. Из-за этого рта Катька называет дочь «Буратино». Алька очень высока и, конечно же, худа как щепка, словом, вылитый Тьерри, Катькин муж. Алька окончила Сорбонну и не раз побеждала на каких-то конкурсах красоты типа «Мадемуазель Сорбонна» и еще что-то там подобное. Она еще и модель, ее снимают для каких-то журналов, и на улицах Парижа висят постеры с Алькой, где она рекламирует коричное печенье.
Она смешно коверкает слова, пьет зеленый чай и ругает мать за то, что та много курит. Интересуется моей жизнью и моими детьми – и я вижу, что ей это действительно интересно.
Алька порывиста, и у нее немного резкие движения, и, несмотря на свои двадцать, она все еще немного напоминает подростка. Она показывает мне эскизы свадебного платья – что-то изысканное кремовое, тонкие кружева и атласные ленты. Мы бурно обсуждаем платье, спорим из-за всякой ерунды и даже слегка ругаемся. Потом Алька показывает фотографии своего Гийома – и я вижу прекрасное, тонкое и умное лицо ее жениха. Почему-то я плачу, и Алька нежно меня обнимает.
Так мы сидим час или два, и нашу идиллию прерывает пришедший Тьерри, Катькин муж и, соответственно, Алькин отец.
Алька бросается к отцу на шею, и они уходят в его кабинет. Катька загадочно и счастливо улыбается. Мы молчим и все понимаем.
Я думаю о том, что в жизни, слава богу, есть справедливость. За все свои беды и горести Катька давно расплатилась по счетам, даже с лихвой, и сейчас наконец может расслабиться и наслаждаться жизнью. Она замужем за прекрасным человеком, у нее чудная дочь, квартира в шестнадцатом округе и неплохой счет в банке.
– Алька чудесная, – говорю я.
Катька кивает.
– Знаешь, она такая искренняя и живая, – продолжаю я. – Настоящая, в общем.
Катька счастливо прикрывает глаза.
– А как у тебя с Тьерри? – спрашиваю я.
– Ты не поверишь, – отвечает она, – но все по-прежнему здорово. Словно не прожита жизнь длиною в двадцать лет. Я по-прежнему скучаю по нему. Представляешь?
Катька наклоняется ко мне и тихо шепчет:
– И там у нас тоже все здорово. Все еще интересно. Ты можешь себе такое представить?
Катька откидывается в кресле и смеется. И я вижу, что она действительно счастлива. Тьфу-тьфу-тьфу. Дай ей бог, она так этого заслужила!
Потом Катька уходит на кухню кормить мужа. Возвращается Алька. Она уже без пальто, но кутается в плед – на улице ранний октябрь, еще тепло, но к вечеру свежеет.
– Я такая мерзляка! – смеется Алька. Она берет мою руку в свои и кладет голову мне на плечо.
– Любишь его? – спрашиваю я.
Алька долго молчит. А потом пожимает плечом и тихо шепчет:
– Я не знаю.
Она опять молчит, а потом резко встает и тихо говорит:
– Понимаешь, я не знаю. Я вообще не знаю, что это. Или мне кажется, – сомневается она. – Он, конечно, хороший, нет, он прекрасный. Но, понимаешь, я не дрожу, когда он берет меня за руку.
Алька смотрит на меня и явно чего-то ждет.
Я осторожна. Боюсь навредить.
– А ведь должно быть так, чтобы я дрожала, а? Или нет? – сомневается она. – Ну, знаешь, как в книжках, ты меня понимаешь?
Я молча киваю.
– И иногда я думаю, что вот проживу с ним целую жизнь и ни разу, слышишь, ни разу меня не будет колотить от его прикосновений. Разве это правильно?
Она смотрит на меня во все глаза, и в них я вижу тревогу и сомнения. Что я могу сказать? Я бормочу что-то о том, что семейная жизнь – это совсем другое, как важны корни, устои, семья, традиции….
– Не ври! – строго говорит она. И я чувствую себя полной идиоткой.
Катька зовет нас ужинать. Стол накрыт в столовой. Темная старинная мебель, кое-где изъеденная жучками, камин, желтый шелк гардин, мягкие уютные кресла, торшеры с приглушенным светом. Стол накрыт по-русски: грибочки, пирожки, борщ, баранья нога.
Алька снова весела, Тьерри сдержан и любезен, а Катька подкладывает мне в тарелку утиный паштет и мажет хрупкий багет деревенским маслом.
– Боишься, что похудею? – смеюсь я.
Их семейке это точно не грозит.
Мы опять пьем вино, болтаем обо всем, а за окном живет своей жизнью лучший из городов – прекрасный Париж.
* * *
Все лето мы живем на даче. Нас привозят в мае, даже если еще не очень тепло и льют дожди. Дети должны дышать воздухом. Это незыблемо.
Ознакомительная версия.