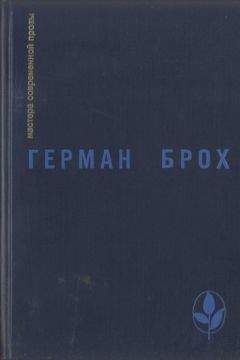Дерева окаймляли берег, их купы в сетке узорных теней, плавно вздымаясь по склонам, манили в глубь побережья, а вода, хоть и покоилось невозмутимо ее вечнозеркальное лоно, омывала прибрежную кромку бесшумно-игривым прибоем, белым легким кружевом пены, чье шуршанье было как слышимость в безмолвии, — ласковое бормотанье наплыва, ласковый рокот отката. Водная гладь позади, земная твердь впереди, беспредельны обе стихии, но и беспредельно проникнуты друг другом, прибытие и все еще плаванье — ибо уже не оставалось былого, едва ли оставалось грядущее, и, хоть ощущал он твердую почву под ногами, все равно он не стоял и не ступал, то была грань движения и покоя, застывшее реянье, плен у предела беспредельности, плен в беспредельном средоточии бытия, все в себя вовлекающем и все навек полоняющем ради слиянного единства души и мира, — безмолвие средоточия… В самом ли деле проник он уже в ядро бытия? Высокое древо вздымалось пред ним, то ли вяз, то ли ясень, но с неведомыми золотыми плодами, и, когда он узрел, что мерцает звезда в просветах ветвей и что в мерцанье ее брезжит также взгляд Плотии, отраженный небом как зримое эхо, как приветствие званому гостю, тогда стала безмолвная эта беседа земли и небес долгожданною встречей, не томимой воспоминаньем, не нуждающейся в приветах, — ток согласья струился между миром движенья и миром покоя, неразличима была та струя ни внутри, ни снаружи, и не различить уже было, откуда она истекала, леса ли плыли ему навстречу, его ли несло к ним волной дуновенья, и размывалась до неразличимости грань меж спокойствием и порывом: он приплыл, но приплытию не было конца, и этим почти недвижным скольженьем над почвой, что казалась слишком легкой для любой стопы и все же была слишком тяжелой для невесомости Плотии, — этим скольжением навстречу скольжению был захвачен не только он, но и Плотия, каждый из них подневольно, каждый по доброй воле, робкий, медлительный шаг Плотии в согласье с его шагом; она была нага трогательно-естественной наготой, окутана этой естественностью, как плащом, нага, как отрок-дух, из которого произошла, и невинность милой ее наготы познавала беззвучный хорал музыки сфер, дабы быть познанной им, дабы раствориться в эфирном его звучании, в гулких его отзывах, — без слов и навек. Нагота? Он тоже был наг; он это заметил, почти не замечая, так мало стыдился он этой наготы, и столь же незаметна была нагота Плотии: во всей своей прелести стояла она рядом с ним, но он едва ли уже в силах был видеть в ней женщину, зато он видел ее изнутри, из самых потаенных глубин ее самости, и видел он уже не тело, а тайну, не плоть, а суть, сокровенную и прозрачную, не женщину и не деву, а улыбку, оживляющую все человеческое, — увидел согретый улыбкой человеческий лик, уже возвысившийся над стыдом и самим собой, уже умудренный печалью неисполнимого приуготовления, уже возвысившийся до бескорыстно-отрешенной любви; странно трогательной и странно зябкой, по-зимнему ясной и стылой была эта ласковая улыбка, отсылавшая к девственно студеному свету парящей звезды, странным холодом дышала эта бесполая ясность, эта младенчески девственная тоска, этот порыв и призыв унестись в несказанно ясную даль небес. И все же в этом порыве, в этом призыве уже было свершенье. Ибо прозрачная сумеречная завеса, что отделяет землю от неба и, непроницаема для всего земного, преграждает песни земного желанья путь в беспредельные сферы, рождая своей непроницаемостью только эхо души, такое, увы, несовершенное внешнее эхо ее безмолвных глубинных видений и, еще несовершенней, слабое эхо вожделенной музыки сфер, — эта разделяющая стена исчезает, когда свершается чудо неземного преображенья, когда переливаются друг в друга, сливаясь воедино, вселенная и душа, и уже не надо тогда земной песни — ни песни желанья, ни песни любви — и, наверное, не надо даже зовущей и ввысь указующей длани, ибо свершилось желанье и музыка сфер звучит теперь вместе и вовне и внутри; вот так и сокровеннейшее существо Плотии стало теперь свойством вселенной, тем всеобъемлющим законом, что отменяет случайность всего земного, отменяет всякую постыдность случайного, освобождает от власти случая, от плена стыда и возглашает беспощадно-суровое достоинство целомудрия, достоинство первозданной невинности. Они ступали, парили теперь в том пространстве, где царило целомудрие последней многоликой единовременности, невинность конечной сути, каковая есть вечная единовременность и неизменность во всех преображениях, истина во всех ипостасях сути, во всех ипостасях заблуждения, они шли сквозь царство невинности, которая ничего не мерит, еще не научилась мерить, — благословенно-беспощадная невинность, благословенная и страшная своей безмерностью, благословенная и страшная спокойствием своей единовременной всеохватности, — вот такое, благословенное и страшное своей истиной, наступило утро, вот такою была его ясная беспечальная тишина, недоступное мере эхо звездного лика, человеческого лика, лика зверя и лика растенья, — сама безмерность…
Вот сюда, в этот недоступный мере безмерный сад, в его беспощадную благословенность вступили они, помилованные и оправданные, одаренные невинностью наготы, освобожденные от наготы вины; и нескончаемо тянулся тенистый лес, и цветы поднимались выше древесных крон, а между цветами, их не превышая, стояли карликовые деревца, и, какая б растительность там ни была: дуб или бук, корица, мак иль нарцисс, лилия или левкой, трава или куст, — каждое из растений могло разрастись до любого размера, и в покоящейся единовременности безмерное добавлялось к безмерному, и былинка вздымалась под облака, крепкая и обвитая плющом, а рядом мох разрастался в кустарник, омываемый влагой ключей: каждое растение — сущность и бытие, но каждое и восуществлено в другом, и все вместе объято и осенено беспечальным покоем. Ибо вся эта тихая зелень, что обвевала прохладой мшистых камней и лепетом родников, таила в себе тьму своих глубочайших корней, мрак чернейших почвенных бездн, выславших каждый стебель на свет дневной и пропитавших в нем каждое волокно, — отблеск последнего лика, отразивший еще раз лик звездный и лик человеческий, лик зверя и лик растенья, еще раз и уже по-земному, в последнем единстве земного их бытия, отблеск бездонного лика земли и ее материнского сумеречного покоя. И покоем стал путь их двоих, их скольжение, их парение, то не они уходили вперед, то шествовал сам покой, и его принимала в себя благоухающая лавром надежда, раскрывшаяся в тихой улыбке вселенная. И покоились кругом звери, покоились по-земному, по-растительному, безмерен был их покой, бездонен взгляд, безмерны очертания у больших и малых, все были полны тьмою, и многие спали. А если не спали, то взглядами провожали шествующих: удивленно глядели глаза быка, бестрепетно улегшегося рядом со львом, и царственно-сонное око льва не таило угрозы, исполинские амфибии, вытянув длинные шеи, таращили желтые драконьи глаза из-под буковых сводов, жабье в волчьем обличье глазело меж кувшинок и акантов, орлоголовая востроглазая птица-пигалица удивленно качалась на кипенноцветном кусте бирючины, и нескладно поворачивала закованное в панцирь тело козявка на длинных трубчатых ножках, чтобы круглым немигающим глазом поглядеть им вослед; а иные звери даже потянулись за ними. Только змея заскользила прочь, сверкая переливами изумрудных колец, и неспешно уползла в золотистую зелень трав и листвы. На диком терновнике висели красноватые гроздья, из твердой дубовой коры сочился росными каплями мед, как смола; серо-зеленая айва, каштаны, восковой желтизны сливы и златобокие яблоки свисали повсюду с ветвей, но не было нужды прикасаться к плодам, дабы насытиться, не было нужды наклоняться к ручьям, дабы утолить жажду, утоление и насыщение сами навеивались незримой волной, как улыбка, посланная расколдованной от стыда невинностью, посланная из всеохватной улыбки сада, из его неизмеримо безмерных глубин, посланная безымянно, безъязыко, безлико, — безликая улыбка, довлеющая себе самой и в себе покоящаяся. Благоуханье цветов сводом раскинулось над реками, сводом перекинулось от рощи к роще, пронизанное нитями солнечного дождя, и, куда бы ни шли они вдвоем, вдоль рек, или по светловолосым полям, или по незримым мостам, где бы они ни останавливались, утренняя звезда сверкала у них в головах, вестница солнца, благовестующего с востока, милостивая светоносица, за неимением собственного света возвещающая о свете беспредельном, перламутрово-нежный отсвет семицветья, его последнее эхо под сводом вселенной. По-весеннему безмерные и по-весеннему мирные, вздымались горы, и улыбку слала их суровость, и улыбка была в нагом спокойствии скал, а меж ними устремлялись к небу, уже почти и не покрытые зеленью, белесые стены ущелий — окаменелый скелет творенья; но высоко над каменной пустыней отливали золотом зеленеющие горные луга под прозрачной синью небес в опаловых россыпях звезд, и там кружили орел, коршун и сокол, плавно парили, не обрушиваясь вниз на пасущихся ягнят, на пятнистую косулю, что спокойно щиплет листву внизу, на границе лесов, где черные тени ущелий переливаются в долины; а здесь, где текут ручьи, журча в ароматных лугах, прячась в трепетной зелени береговых тростников, здесь, где зеркальные лона прудов полонили светило небес, — здесь в тихих светлых потоках недвижно стояли рыбы, чешуйчатый пучеглазый народ, глубоко на прозрачном дне играли тени их тел, и однако же цапли, пролетавшие в поднебесье, тоже не прельщались добычей. Было солнце, и была тень, но не только солнце, не только тень, ибо подернутый опаловой дымкой светлый купол над ними был больше чем небо и точно так же больше чем земля были осиянные звездным мерцаньем кущи садов пред ними, и при всей безмерности просторов верха и низа — безмерен купол, безмерен сад — сами они отнюдь не были беспредельны, оба заключены были в круг единственно истинной, второй бесконечности, бесконечности истинного света и непреложно истинного различенья, создающего образы уже не из света и тени, а единственно из их сокровеннейшей сути, — и теперь распознать эти образы было легко, ибо в них воедино сливались тьма и свет, и ничего уже больше не оставалось ни наверху, ни внизу, что бы не было вместе и звездою и тенью; и даже дух человеческий, ставши звездой, не нуждался уже в языке — не отбрасывал словесной тени. Полон покоя был дух. И они, ступавшие здесь, тоже были вместе и звездою и тенью; рука об руку шествовали их души, свободные от пут языка; в девственно-безъязыком покое низошло к ним согласие, и согласию этому причастны были и звери, что за ними шли по пятам. Покоясь, шествовали они, а потом устроились на покой, отдыхая после покоя, ибо настал вечер. Они покоились, окруженные зверьем, и глядели ввысь, на поворачивавшийся к западу синий купол, ввысь, на недвижно стоящую звезду, провидя в ней незримость второй бесконечности, той, что за куполом, — глядели ввысь, пока солнечный диск не склонился снова к завесе сумерек, и их созерцание было как созерцание красоты — правда, уже за пределами красоты, ибо то, что так легко и свободно лучилось им навстречу, при всей его пленительности и легкости, при всей глубине и соразмерности, было отнюдь не неведением, свойственным красоте, нет, это было знание, исходившее от самых глубинных и самых окраинных пределов бытия, не то чтобы просто символ, не просто символ предела, нет, то была сама суть бытия, и причастность ему далась им теперь так легко, что ничто уже Не казалось чужим, все стало родным, каждая точка пронизана далью, каждая даль преображена в близость, и здесь и там все стало отрешенно-близким, стало их совместным уделом, порождая внутреннее согласие душ.