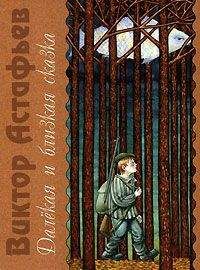неслось вдогон лодке, и еще долго слышался голос Полины. Она вышла на самый носок, взобралась на валун и махала нам снятым с головы платком.
Лодку выметнуло в Енисей, подхватило, понесло, норовя обернуть. Пьяненьких да лопоухоньких любит испытывать родимая наша река. До того иных доиспытывает, что окажутся они на холодном каменистом дне. Но бакенщик же, братан мой, привычен с рекой управляться, погода-непогода, быть ему на ней, засвечивать огни. Он только с виду испитой, братан-то. На самом-то деле мужичонка жилистый. Уперся ногами в кокору[263], всадил весло в воду, что тебе в масло, голову наклонил и правит лодку наискосых, почти встречь течению, да еще и кричит при этом: «Узнай же, изменшык коварнай, как я доверялась тебе…»
Мы проходили середину реки, самую стремнину. Называют ее стрежнем, селезнем, зёрлом, стрелкой, струной и еще как-то, не вспомню, но слова-то все какие — одно другого звучнее! Это тебе не «берег левый, берег правый» с черной пропастью меж них, налитой черною водой — ни дна под тобой, ни покрышки над тобой, ни рыб, ни птиц, ни камешков — холодная пустота, бездонная, всасывающая, и надо вырваться из пустоты, преодолеть ее, не дать повязать себя страхом по ногам и рукам, не попасть еще и в объятия тех, кого навечно вбирала в себя беззрачная, бездушная темень пустоты.
На плацдарме я не раз вспоминал от старого, заезжего солдата слышанное: «Войну нелегко слышать, но во сто крат страшнее войну видеть». Через неделю стали всплывать трупы. Их таскало по тиховодной реке, в мыльно пузырящейся пене. Всему послушные, куда несет, туда плывут, безгласны они, а уши тех, кого лично стерег Господь Бог или другая какая сила, все еще рвет крик: «Ма-а-а-ама-а-а-а!» — клочок берега, без дерев, даже без единого кустика, на глубину лопаты пропитанный кровью, раскрошенный взрывами, клочок берега, где ни еды, ни курева, патроны со счета, где бродят и мрут раненые, — все равно кажется райской обителью…
Стрежень, селезень, зёрло, стрела, струна — я и забыл про эти слова, а они ведь были, и река вот эта, стремительная, веснами яростная, совсем непохожая на ту, была, катилась, шумела, кружилась, но для меня она могла остановиться. Да, она все так же текла бы, кружила бурунами, завихряясь у скал, грохотала по весне, но во мне ее не стало бы, она умерла бы вместе со мной, перестала течь…
Мы приближались к Овсянке. Я хлопал лопашнами и, хотя сидел к берегу спиной, слышал и словно бы даже видел деревню, берег и все, что было дальше: во дворах, в огородах, в ближнем лесу, иль мне все блазнилось? Вот петух возле сидоровской бани проорал: от двора Шимки Вершкова столкнули лодку по гремящим камням; под берегом побрякивает боталом корова, отбившаяся от табуна; визжат ребятишки, терпеливо грея воду, чмокают сплавные бревна, сталкиваясь друг с дружкой окорелыми боками; в чьем-то дворе, кажется, у припадочной Василисы, ширкает пила; высоким голосом кого-то пушит баба. Мужика, конечно, кого сейчас еще бабам пушить? Поддал небось мужик с утра пораньше, вот бабе и раздолье, дождалась с фронта бойца, в схватку с ним вступила. Молча держит осаду опытный вояка, выжидает момент для боевого броска.
Продернуло нас, протащило мимо прорана боны, худой я стал гребец, да и задумался, заслушался, рот открывши, — перетаскивать через бону лодку придется. Я поднял весла. Встречь нам катился звонкий голос Малой Слизневки, вон и белая жилка ее трепещется в распадке, на нас наплывал слитный шум великой тайги и откуда-то сверху, с дальних хребтов размеренный, протяжный колокольный гул.
Я обернулся — не слышно Полину, но коренастенькая ее фигура все еще видна на сером бычке, за ней, за женщиной, и за беленькой избушкой, отсюда кажущейся скворечником, отдаляясь, вырастали горные перевалы и вершина самой высокой горы наших мест — Култук — расплавилась в жарком и жидком солнце. Она-то, гора эта, и гудела от жары по всему небу колоколом. Леса зелеными полосами и проплесками стекали по Култуку к реке, и плавал белый от черемухи остров напротив деревни, тот самый, куда мы когда-то с Санькой и Алешкой храбро подались налимничать по дурной, веснопольной воде. Пещеры, как и много лет назад, целят с другого берега, из каменных стен орудийными дулами в наше село. Караульный бык тоже как бы оплавлен с боков огнем молодого еще, но уже напористого лета. Отчетливо видна на отвислой глыбе полоса высокой, напряженной воды, идущей в межень, — отметина еще одной весны.
И в сердце моем, да и в моем ли только, подумал я в ту минуту, глубокой отметиной врубится вера: за чертой победной весны осталось всякое зло, и ждут нас встречи с людьми только добрыми, с делами только славными. Да простится мне и всем моим побратимам эта святая наивность — мы так много истребили зла, что имели право верить: на земле его больше не осталось.
1974, 1988
Задами пробрался я к нашему дому. Мне хотелось первой встретить бабушку, и оттого я не пошел улицей. Старые, бескорые жерди на нашем и соседнем огородах осыпались, там, где надо быть кольям, торчали подпорки, хворостины, тесовые обломки. Сами огороды сжало обнаглевшими, вольно разросшимися межами. Наш огород, особенно от увалов, так сдавило дурниной, что грядки в нем я заметил только тогда, когда, нацепляв на галифе прошлогодних репьев, пробрался к бане, с которой упала крыша, сама баня уже и не пахла дымом, дверь, похожая на лист копирки, валялась в стороне, меж досок проткнулась нынешняя травка. Небольшой загончик картошек да грядки, с густо занявшейся огородиной, от дома полотые, там заголенно чернела земля. И эти, словно бы потерянно, но все-таки свежо темнеющие грядки, гнилушки слани во дворе, растертые обувью, низенькая поленница дров под кухонным окном свидетельствовали о том, что в доме живут.
Враз отчего-то сделалось боязно, какая-то неведомая сила пригвоздила меня к месту, сжала горло, и, с трудом превозмогши себя, я двинулся в избу, но двинулся тоже боязливо, на цыпочках.
Дверь распахнута. В сенцах гудел заблудившийся шмель, пахло прелым деревом. Краски на двери и на крыльце почти не осталось. Лишь лоскутки ее светлели в завалах половиц и на косяках двери, и хотя шел я осторожно, будто пробегал лишку и теперь боялся потревожить прохладный покой в старом доме, щелястые половицы все равно шевелились и постанывали под сапогами. И чем далее я шел, тем глуше, темнее становилось впереди, прогнутей, дряхлее пол, проеденный мышами по углам, и все ощутимее пахло прелью дерева, заплесневелостью подполья.
Бабушка сидела на скамейке возле подслеповатого кухонного окна и сматывала нитки на клубок.
Я замер у двери.
Буря пролетела над землей! Смешались и перепутались миллионы человеческих судеб, исчезли и появились новые государства, фашизм, грозивший роду человеческому смертью, подох, а тут как висел настенный шкафик из досок и на нем ситцевая занавеска в крапинку, так и висит; как стояли чугунки и синяя кружка на припечке, так они и стоят; как торчали за настенной дощечкой вилки, ложки, ножик, так они и торчат, только вилок и ложек мало, ножик с обломанным носком, и не пахло в кути квашонкой, коровьим пойлом, вареными картошками, а так все как было, даже бабушка на привычном месте, с привычным делом в руках.
— Што ж ты стоишь, батюшко, у порога? Подойди, подойди! Перекрешшу я тебя, милово. У меня в ногу стрелило… Испужаюсь или обрадуюсь — и стрельнет…
И говорила бабушка привычное, привычным, обыденным голосом, ровно бы я, и в самом деле, отлучался в лес или на заимку к дедушке сбегал и вот возвратился, лишку подзадержавшись.
— Я думал, ты меня не узнаешь.
— Да как же не узнаю? Что ты, Бог с тобой!
Я оправил гимнастерку, хотел вытянуться и гаркнуть заранее придуманное: «Здравия желаю, товарищ генерал!»
Да какой уж тут генерал!
Бабушка сделала попытку встать, но ее шатнуло, и она ухватилась руками за стол. Клубок скатился с ее колен, и кошка не выскочила из-под скамьи на клубок. Кошки не было, оттого и по углам проедено.
— Остарела я, батюшко, совсем остарела… Ноги…
Я поднял клубок и начал сматывать нитку, медленно приближаясь к бабушке, не спуская с нее глаз.
Какие маленькие сделались у бабушки руки! Кожа на них желта и блестит, что луковая шелуха. Сквозь сработанную кожу видна каждая косточка. И синяки. Пласты синяков, будто слежавшиеся листья поздней осени. Тело, мощное бабушкино тело уже не справлялось со своей работой, не хватало у него силы заглушить и растворить кровью ушибы, даже легкие. Щеки бабушки глубоко провалились. У всех у наших вот так будут в старости проваливаться лунками щеки. Все мы в бабушку, скуласты, все с круто выступающими костями.
— Што так смотришь? Хороша стала? — попыталась улыбнуться бабушка стершимися, впалыми губами.
Я бросил клубок и сгреб бабушку в беремя.