Эшафоты с узниками были оборудованы индивидуально. Словно безумный архитектор придумывал каждому заключённому неповторимый гармонирующий с личностью обитателя дизайн. Таюшкино место представляло собой каркас авангардного глобуса, внутри которого, как в клетке, и скучала пленница. Глобус был эллипсообразно вытянут, а его параллели и меридианы из благородных сортов дерева переплетались в самых немыслимых направлениях.
Но это гораздо лучше, чем быть прикованной цепями к письменному столу или сидеть в металлической клетке, как соседи неподалёку. Таюшкино наказание: стоять подолгу в одном положении, вытянув руки вверх, пока всё тело не начнёт ныть. Тогда двое надсмотрщиков, не говоря ни слова, позволяют ей сменить позу. Маленькой узнице иногда даже разрешается покидать деревянный остов и разминать затёкшие руки и ноги, не отходя от своего подиума. Но как только боль проходит, и Таюшка начинает глазеть по сторонам на праздно шатающихся счастливчиков, два её стража, мужчина и женщина, непостижимым образом мысленно загоняют девочку на прежнее место.
Вот и соседская чернушка тоже не прикована, не связана, да и клеть у неё комфортабельнее — как будто из мягких, обитых бархатом перил театрального балкона. На такие прутья и опереться — удовольствие, не то что на голые деревяшки, хоть и из карельской берёзы.
Разговаривать вслух нельзя даже с собой, сразу рот сковывает судорогой и голос пропадает. Услышать, о чём переговариваются люди вокруг, невозможно, шелест слов складывается в тихий неразличимый гул. Единственное занятие — прислушиваться к своим мыслям и внутреннему голосу.
Когда посетители гигантского манежа с выставленными на всеобщее обозрение живыми экспонатами равнодушно проходят мимо — это ещё полбеды. Хотя становится немножко обидно — значит, все другие «Картинки с выставки» занимательнее, чем она, трогательная, нежная и незаслуженно обиженная девочка. Если же вокруг постамента вдруг скапливается многолюдная толпа зевак, что начинают бурно обсуждать обитательницу деревянного эллипса, беззастенчиво разглядывая и тыкая в неё пальцами, Таюшка начинает волноваться. Но позу менять нельзя, поэтому появляются слёзы стыда и бессилия, от которых ещё конфузнее стоять перед зрителями.
* * *
В коллектив кающихся грешников Ольга Михайловна влилась сразу. Робеющая группка жаждущих отпущения грехов держалась чуть обособленно и обладала незримой, но явно ощутимой солидарностью. «Пусть хоть что вопят атеисты, а мне хорошо чувствовать себя маленькой частичкой великого чуда. Или, как сказала бы одна наша „рерихнутая“ историчка: тянет присоединиться к великому эгрегору, стать составляющим звеном мирового разума. Пусть так. Главное, что тут нет этого гнетущего, высасывающего душу одиночества!»
Ольга Михайловна быстро втянулась в ритм молитв и поклонов. Монотонным действо можно было назвать только на первый невнимательный взгляд. На самом деле постоянно что-то менялось. То присоединялись к песнопению новые голоса, то резко замолкали, но потом вновь возвращались. Плотный юноша в золочёном облачении сосредоточенно окуривал храм ароматом ладана под переливы серебряных колокольчиков. Постоянно что-то двигалось, менялось.
Наконец к страждущим вышел исповедник. Его слова утонули в молитвенной мелодии с клироса, перекрывающей тихий голос. Но то, что он говорил, было и так понятно: к исповеди допускаются те, кто готовился.
Время потекло медленнее, в душе стало расти волнение. Как язык повернётся рассказать все тайные пакости? К тому же батюшка уж слишком молод и хорош собой…
Глаза Ольги Михайловны то и дело наполнялись слезами. И тогда перед взором плыли длинные сверкающие нити. Всё сливалось в переливающиеся пятна: золото иконостаса, парчовые одежды священнослужителей, пульсирующие живые сердечки свечей.
Кто-то из церковных бабушек приоткрыл боковую дверь для того, чтобы немного проветрить помещение. На улице кипел рабочий день. За фигурными прутьями церковной ограды виднелось крыльцо юридического колледжа. Молодые люди и девушки высыпали во время перерыва подышать свежим весенним воздухом, точнее — отравиться сигаретным дымом.
Ольгу Михайловну поразил контраст между тёплым уютным мерцающим интерьером храма и холодным серым прямоугольником видимой улицы. Женщина почувствовала себя под защитой непобедимой заботливой материнской силы, которой лишены маленькие человечки там, на заплёванном, полуобрушенном крыльце.
Студенты жадно курили, гоготали и задирались, как пятиклашки из класса выравнивания… Особенно неприятно было смотреть на девушек в постыдно-коротких юбках (как бабушка говорила: «Ажно до самой матушки!»). Привычная студенческая распущенность вскрикивала на разные голоса:
— Дай сигаретку, не жопься!
— Щас чё у нас?
— Барыгу закрыли наглухо, слышь…
«Надо же! Обезьяний питомник похлеще нашего среднего звена!» — удивилась про себя Ольга Михайловна и вздохнула спокойно, когда двери в реальный мир заботливо прикрыли.
Меж тем несколько человек уже получили отпущение грехов. В первую очередь по церковной традиции вперёд пропустили всех немногочисленных мужчин. Как в любой компании, сразу выделился лидер — самый знающий и активный, им оказалась коренастая бабка в шляпе. Она одна знала, кому пора идти, а кому ещё нужно подождать, подравнивала всех и следила, чтоб никто не заступал воображаемой линии. По её распоряжению вперёд была пропущена беременная прихожанка. А также устранены разнообразные нарушения дисциплины: перестали стучать каблуками «две кобылы», одна глупая девчонка отправлена за «общественным» платком, а пожилая тётя отчитана за то, что догадалась заявиться на исповедь в брюках. «Наверное, эта бабка — завуч бывшая, — догадалась Ольга Михайловна. — Хотя, как говорится, бывших завучей не бывает».
Рядом с собой Ольга Михайловна заприметила необычную прихожанку. Девушка в нежно-голубой куртке имела ярко выраженные африканские черты. Тем не менее, экзотическая для сибирских широт внешность не лишала её обладательницу права приобщиться святого таинства причастия. Ольга Михайловна искоса посматривала, отмечая про себя оливковый оттенок кожи, пухлые вывернутые губы, чёрные, густые ресницы при полном отсутствии туши.
Постепенно Ольгу Михайловну словно засасывало в воронку. Куда-то утекли раздражение на усердно падающих на колени старушек, на подлого соседа и протёкший потолок. На предстоящую в следующем году защиту категории и непослушных семиклассников, к уроку с которыми нужно целую неделю готовить себя морально, как к посещению стоматолога. Вскоре её перестали отвлекать мелочи: скрип дверей, служки, просеивающие через ситечки песок в чашах для свечей, и вообще всё на свете отошло на задний план, стало совершенно несущественно.
Вместе с тем крепло в душе ощущение словно бы раскрывающегося цветка. Радость наполняла её, как пустой сосуд золотоносным живым светом, а голодная душа напитывалась им, как новорожденный телёнок материнским молоком. Вскоре в мыслях не осталось ничего, кроме молитвы, плавающей в спасительной пустоте.
Утренняя служба шла быстро, но батюшка не торопился, с каждым вкрадчиво беседовал, прежде чем накрыть голову прихожанина краем чёрной материи и перекрестить. К исповеди Ольга Михайловна пошла одной из самых последних, пропустив и активистку в шляпе, и афро-сибирячку в голубой куртке.
Поклонившись оставшимся собратьям и как бы прося у них позволения идти на исповедь, Ольга Михайловна подошла к священнику. Слова пришли сами, хоть батюшка никак не помогал исповеднице, а только внимательно слушал. В первые секунды Ольга Михайловна совсем не узнала своего голоса, он стал чужим и скрипучим. С большим трудом она выдавливала из себя фразу за фразой, но чем дальше продвигалась, тем легче лилась речь, крепли связки, возвращался голос:
— Батюшка, я грешна во всех грехах. Первое и самое главное, несколько лет жила с женатым мужчиной. Понятно, что не венчаны, не расписаны. Потом после разрыва с ним ещё встречалась с двумя. Грешила. — В носу предательски засвербило. Потекло одновременно из глаз и из носа. Ольга Михайловна едва успевала промокать потоки носовым платком.
Молодой батюшка словно не замечал её жалкого положения, уважительно кивал, глядя как бы сквозь неё необыкновенными вишнёво-карими глазами, изливающими волны искреннего сочувствия и нежности. «Как же он похож на иконописные образы! Почему глаза словно вишнёвыми кажутся? Таким не соврёшь — в душу смотрят. Вроде как издалека совсем другим казался, не таким красивым», — промелькнуло удивление Ольги Михайловны.
— Ещё, батюшка, зло меня съедает. А одного мужчину — соседа я прям ненавижу. Постоянно зла ему желаю, а иногда даже смерти. Хотя молюсь, пытаюсь убрать такие мысли, а ничего с собой поделать не могу. Да и вообще всего до кучи: и чревоугодие (с поста постоянно срываюсь), и жадность какая-то развилась в последнее время. И ещё не могу противостоять несправедливости — трушу сказать, что кто-то не прав, или когда сплетничают про кого-то, не могу сказать — прекратите, молчу и всё, не знаю почему… А ещё я вот забыла. Пока тут стояла в очереди, поняла, что постоянно осуждаю людей! Даже здесь, в храме критикую, а сама критики не терплю. Но чаще всего завидую. Страшно завидую женщинам, у которых есть мужья, особенно если хорошие, непьющие. Я их тоже ненавижу временами и злорадствую, если у кого-то мужик запьёт или загуляет… Дети меня страшно раздражают. Но я вынуждена с ними работать. Срываюсь, бывает, на них. Одновременно завидую тем, у кого дети удачные. У меня-то так теперь уже и не будет никогда… Уныние, пессимизм заедают, не верю я в лучшее. Не верю, что может измениться моя жизнь к лучшему. Плачу каждый день. Жалею себя ужасно. Сетую на судьбу… — всхлипывания прервали исповедь, и Ольга Михайловна уткнулась в мокрый платок, не в силах побороть сдавленные рыдания.
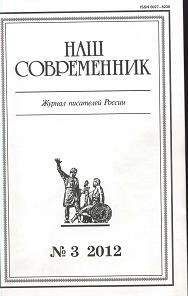


![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)

