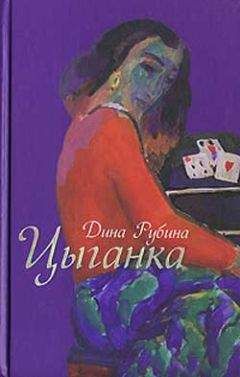Ознакомительная версия.
Я окоченела. Подумала, не попросить ли Ольгу сменить хорал на что-нибудь легкое, из европейской эстрады… Мягко и сочувственно проговорила:
— Понимаю вас…
— Ни черта вы не понимаете, конечно, – спокойно отозвалась она, прихлебывая с ложки с таким аппетитом, таким здоровым удовольствием на морщинистом лице, что вся эта картина показалась мне ошибкой звукооператора, записавшего на бытовой зрительный ряд текст из совсем другой, трагической и безумной киноленты…
— Главное, я сама не понимаю, к чему вам вся эта история. – Она подняла брови, когда-то наверняка длинные и густые, ныне тщательно реставрированные черным карандашом. – И с чего это меня сегодня так развезло… Не с бокала же вина… Если б вы знали, сколько я могу выпить без всякого ущерба госдепартаменту! – И постучала согнутым пальцем по собственному черепу. Ее морщинистая щека смешно, по-детски оттопыривалась справа непрожеванным куском лаваша. – Видели бы вы, сколько выпивали мы с Адамом за вечер в одном ресторанчике в Бергамо… Мы любили там бывать, у синьора Марчелло… Раз восемь приезжали. Если уж есть рай на земле, доложу я вам, то он расположен как раз в Бергамо, на вершине холма, в Старом городе… Здесь можно курить, как вы думаете?
Вот этого еще моей астме не хватало — чтобы меня обкурила до приступа старая сумасшедшая приблуда… Я выразительно замялась, как делаю всегда — чуткий курильщик понимает и смущается, – но она уже достала пачку сигарет, зажигалку… Закурила…
— Ладно. – Она длинно выдохнула, разгоняя ладонью дым. – Вот вам история Адама… Он не любил ее рассказывать, о многом, как понимаю сейчас, умолчал. Никогда не отвечал на мои прямые вопросы, а я сразу умолкала, когда видела на его лице это выражение… знаете, бесконечной усталости… безысходности… не знаю, как сказать точнее, но чувствовала этот миг печенками! А потом… после… ну, когда он исчез окончательно, я обнаружила, что его история похожа на брюссельские кружева — дырки, дырки и сплетения множества нитей… Так вот, он ушел через подкоп и с Федей бежал к партизанам. Но сначала его не принимали в отряд, прогоняли — на черта ты нам, говорили, сопля жидовская, даже оружия у тебя нет… И вот дальше — дырка, очередной узор в кружеве… Как он добыл оружие — не знаю. Вроде бы выследил немца… С полгода сражался в отряде и никогда не знал, с какой стороны следует больше бояться пули…
Потом пробрался в Польшу, оттуда — во Францию… Там несколько месяцев воевал в одном из отрядов Сопротивления и… ну, это опять некая дырка в кружевах, только с тех пор он не любил французов и называл их говнюками… А, вспомнила: однажды, говорит, я оглянулся вокруг и удивился — почему в нашем отряде есть кто угодно — поляки, армяне, евреи, украинцы, чехи… и так мало французов? И с чего это, подумал, я голову кладу за то, чтоб одних говнюков избавить от других говнюков?.. Потом он рассказывал еще кое-что: вроде, спустя много лет те, кто выжили после расстрелов, свидетельствовали о случаях, когда команда «пли!» раздавалась по-французски… Говорил, что была такая дивизия в СС под названием «Викинг», формировалась она в Норвегии, но входили в нее добровольцы из разных стран, то ли покоренные мечтой фюрера, то ли в стремлении к наживе… Эта вечная грязная накипь народов, знаете… жажда крестовых походов, не важно в каком направлении… Так вот, в составе этой дивизии, говорил он, было много французов… Лично я считаю, что подонков хватает у кого угодно, только Адам к этому относился иначе. В этом он был непримирим! Говорил — они своим женщинам головы, головы за связь с немцами брили, вместо того, чтоб у них прощения просить, вояки херовы! Знаете, он потом и в Париже — в Париже! – не любил бывать… А я так люблю Париж… это были вечные семейные скандалы…
Так вот, он решил пробираться в Эрец-Исраэль. Уж погибнуть, говорил, так за своих… Но еще на несколько лет застрял в Европе: в составе этих секретных групп разыскивал и собирал тех, кто спасся из нацистских лагерей, и переправлял их в Эрец-Исраэль на латаных суденышках… Кстати, многие пробирались пешим ходом — через Румынию, Польшу… Вам известно, что с сорок четвертого по сорок восьмой год «Бриха» переправила порядка двухсот пятидесяти тысяч евреев в Палестину? Тебя я даже не высматривал, говорит Адам, знал, что погибла вся семья… И это было правдой… Ну, а потом, когда в сорок восьмом Израиль был провозглашен и сюда хлынули со всех границ сразу пять армий, он воевал здесь… Вы видели, конечно, останки грузовиков, что выставлены вдоль шоссе на Тель-Авив? Их называли «сэндвичи», потому что фанеру обшивали на живульку листами железа… Вот в таком «сэндвиче» Адам возил продовольствие в осажденный Иерусалим… И в Шестидневную воевал, конечно, тоже… Раза три был ранен… А в перерыве успел закончить университет, потом аспирантуру… Адам был выдающимся биологом, это между прочим, профессором в институте Вайцмана, заведующим лабораторией… Ну, а в Войну Судного дня воевал уже его сын Гидеон. Гиди хороший мальчик, сейчас ему пятьдесят пять, у нас вполне приятельские отношения… Вот как раз он и должен был сегодня меня встретить и доказать, что Адам не бросил меня, не смылся к какой-нибудь курве, а лежит как приличный человек в приличном месте… Но Гиди приболел… Сердце у него пошаливает… Надо делать «центур», я уговариваю, а он все тянет…
Из кухни выглянула Ольга — проверяла, не забрать ли пустую посуду, но я взглядом остановила ее, чуть качнув головой. Она молча показала руками — ничего, мол, больше? И так же молча я кивнула на опустевший чайник.
За окном, вровень с нашим столом, возникла кошка. Уселась, уставилась на нас не мигая…
— Мирьям… – проговорила я… – можно я задам вопрос наконец?
— Не надо. – Она загасила сигарету в пепельнице. – Понимаю, о чем вы хотите спросить. Я все расскажу… Знаете, впервые я рассказывала эту историю спустя тридцать лет после расстрела сотруднику музея «Яд ва-Шем». Он был наш хороший приятель и настоял… Тогда у них только закладывали Аллею Праведников, где сажали деревья в честь людей, которые не боялись спасать евреев в том аду… И он уговорил меня, что я должна совершить этот шаг… преодолеть себя… оставить память, сви-де-тель-ство!.. Потому что я свидетель. Я говорила ему: я не свидетель, нет, я покойник… я — дохлятина… Вот тогда мне было худо, в первый раз… Я выталкивала слова из самого нутра, а они не поддавались… Это было похоже на то, как долбят каменистую почву, или песчаную, лесную, всю прошитую корнями деревьев… Да-да… я выталкивала из себя слова, и перед глазами у меня был папа, как он хекал и всаживал лопату в лесную песчаную почву, а она не поддавалась, и он все хекал и бил по корням, и копал, копал нашу могилу… Вот тогда было страшно говорить, вытаскивать это из себя, из земли — на свет божий… Я стала задыхаться, и Адам оборвал интервью, прижал меня к себе и велел нашему приятелю уходить, катиться куда подальше со своей Аллеей Праведников… Но прошли годы… и с тех пор я уже столько раз повторяла этот рассказ самым разным людям, журналистам, ученым, даже на каких-то симпозиумах, где регулярно пытаются осмыслить этот непроизносимый кошмар, который они называют Катастрофой… У меня уже давно это выстроилось в такой, знаете, фильм… тяжелый, ужасный, но сто раз виданный… И не про меня. Я привыкла. Уже не чувствую, что рассказываю о себе… – Она судорожно затянулась последним дымом, со странной гримасой раздавила в пепельнице червячок сигареты и оживленно предложила: — Давайте-ка я так и стану говорить: она . Ладно? Она, ее, его, их … В хорошем рассказе нужна некоторая отчужденность рассказчика, не правда ли?
Ольга, улыбаясь, вынесла новый чайник с ягодным отваром.
— Как сегодня наш супчик? – спросила она, собирая посуду. – Понравился?
Ей никто не ответил.
Кошка за стеклом заметалась, пытаясь открыть лапой створку окна. Не могла смириться с зимой…
Мирьям закурила очередную сигарету, я же молча и тяжело смотрела на нее, вдыхая отравный дым и зная, что ночью буду задыхаться так же, как она, впервые рассказывая свою историю…
— Так вот, когда их выгнали на поляну и они увидели ямы, раздался вой, нечеловеческий звериный вой… Ямы копали мужчины, их для этого согнали раньше… Она увидела отца, который продолжал копать последнюю яму… Вокруг стояли полицаи и солдаты с ружьями, герр Менцель тут же, но в стороне… Наверное, этот вой звучал для него, истинного меломана, страшным диссонансом. – Она усмехнулась. – Можно только вообразить, какие он испытывал муки… А затем… затем приказали раздеваться и складывать одежду поодаль, в кучу. И с той минуты все происходящее долетало до нее — мы договорились, правда? – до нее … таким, знаете, нереальным эхом ночного кошмара. Потому что ведь этого не могло происходить на самом деле, при свете дня… Не могло! Она видела, как солдат брезгливо поддел штыком носочек на ножке Ицика, ее трехлетнего брата, показывая, что надо снять, и Ицик спросил: «Мама, что, будем купаться? Холодно же…»
Ознакомительная версия.