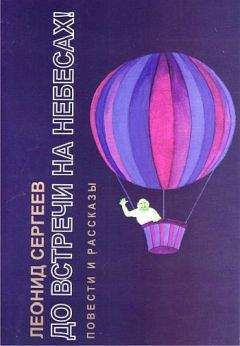Как-то, играя в шахматы с неизвестным поэтом Владимиром Юршовым и явно проигрывая, осадил партнера (и, кстати, сверстника):
— Как ты смеешь называть меня на «ты»?! Не забывай, кто ты и кто я!
Каким-то невероятным образом ему все-таки удалось свести партию вничью, и уходя, он тихо сообщил своей подружке, которая ждала его невдалеке:
— …Я-то гений, сама знаешь, а он-то мелочь!
В другой раз, проиграв партию в бильярд, он огрел эту подружку кием по голове — в приступе восторга она что-то сказала под его горячую руку. Заносчивый, неуравновешенный, нервный Шкляревский не ходил по ЦДЛ, а скакал; на посетителей смотрел пронзительно (прямо сверлил насквозь) и никогда никому не улыбался (даже близким знакомым). Но, получив Госпремию, поступил благородно — отдал ее на улучшение экологии своей Белоруссии, в отличие от всяких Ю. Семеновых и Т. Толстых, которые, дорвавшись до денег, все загребли себе, причем Семенов выкинул дешевый трюк — перед телекамерами объявил, что гонорар за последний детектив жертвует (на какую-то ерунду), только редактор «Современника» Михаил Ишков сказал:
— Книга пятнадцатое переиздание, и там копейки, а вот перед этим у него вышло собрание сочинений, там он хапнул, будь здоров! Но об этом умолчал.
Невероятный болтун и хвастун Юрий Вигор, без всякого стеснения, все свои романы и рассказы (а также фельетоны, статьи и прочие писания) называет «гениальными». Раз в год он звонит мне и часа полтора, без передыха, пересказывает содержание своих творений, при этом ударяется в разные ответвления — вкрапляет личные биографические подвиги, поездки в Англию и Данию, встречи со знаменитостями, КГБэшниками и девицами всех мастей, упоминает и про свою дачу на берегу озера, про машину «Волгу», про то, как руководил автосервисом, теннисным клубом, охотхозяйством, куда возил крупных начальников убивать кабанов и лосей, про торговые точки на Арбате и Черемушкинском рынке, которые ему принадлежат и где, нанятые им «соловьи» (продавцы с подвешенным языком) продают его опусы, а по вечерам сдают ему выручку… Остановить этот хвалебный поток невозможно — ссылаешься на дела, головную боль, а он:
— Нет, ты подожди, не клади трубку, дослушай! — и молотит дальше. Такой пустозвонный гений.
Мой редактор (в «Сов. писателе») и друг, прозаик Александр Трофимов всегда сверхтребователен к современным литераторам, от него никто не ждет пощады. Знаток зарубежной классики, он ко всем подходит с большим мерилом, на все смотрит с заоблачной высоты. Тучный, с лохматой шевелюрой-гривой и огромной седой бородой, страшный интеллектуал Трофимов внешне являет собой образ русских мыслителей девятнадцатого века. Далекий от всякой житейской суеты, непробиваемый скептик, он любой разговор заканчивает с полной безнадегой в голосе:
— Все это суетно. Все это тленно.
За этими словами, естественно, стоит — у меня-то глубинные движения души, у меня-то нетленные произведения, моя весомость в литературе сродни весомости классиков, меня ждет грандиозная слава.
Не раз мы с Трофимовым крепко выпивали (после чего нас, как правило, заносило в какие-то случайные компании), но однажды встретились у ЦДЛ и на мое предложение «освежиться, махнуть по сто грамм», мой друг категорично замотал головой:
— Лень, ты что?! Мне уже сорок, а у меня еще нет романа. Надо спешить работать. Ты же знаешь, все гении рано умирали.
Роман об Андерсене он все же написал — «единственный в мире», как объявил мне. (Сведущие люди говорят — «Читать невозможно»). Недавно я открыл какой-то журнал, где были короткие сказки Трофимова. Полстраницы занимало перечисление премий, должностей и званий моего друга — штук двадцать, не меньше!
— Обо мне в энциклопедии написано больше, чем о Трояпольском, — позднее сказал Трофимов. — О нем две строки, а обо мне в десять раз больше.
Вот так вот! Думаю, мой друг уже занес ногу, чтобы встать на пьедестал.
Недавно прозаик А. Трапезников сказал мне:
— Ночью звонил Трофимов, просил приехать, сказал, что по ночам Бог посылает ему псалмы, а он не успевает их записывать.
Фантаст Владимир Григорьев открыто называл себя гением, при этом всегда добавлял:
— Гениальный человек должен быть богатым.
Еще в конце пятидесятых годов, с целью разбогатеть, Григорьев приобрел кинопроектор и два фильма: «Сестра его дворецкого» и «Джордж из Джинкинджаза», которые крутил у себя дома друзьям и знакомым… за деньги.
Бывший официант, курящий, пьющий балагур, знаток и исполнитель итальянских опер (в домашней обстановке), искрометный юморист Виталий Резников постоянно мне сообщал, что «написал гениальную пародию» или «выдал гениальную эпиграмму», но говорил это в дурашливой манере, ради шутки, а на мои поздравления нарочито вскидывал голову и возвещал нараспев, словно серенаду:
— Ты что?! Мне это ничего не стоит, вылетает само! У меня же золотое перо!
Такого рода «гениальность» можно принять без всяких оговорок — ну, то есть тех, у кого хватает ума подшучивать над своей славой. Невольно вспоминается Сенека: «Когда мне хочется посмеяться, мне не нужен шут, я смеюсь над собой». К слову, Резников всегда подходил ко мне, крепко жал руку, с душевной прямотой импровизировал на тему «ЦДЛ — выпивка — женщины», но однажды прошел мимо, не заметив. Я его окликнул:
— Ты стал знаменитым и уже не подходишь к старым друзьям?
— А я теперь с простыми людьми не здороваюсь. Я теперь общаюсь только с равными себе, с гениальными! — он засмеялся и обнял меня.
Что и говорить, гениев в Доме литераторов всегда было в избытке (когда-нибудь, кто-нибудь основательно возьмется за эту радостную тему), но пять лет назад, когда некоторые из героев этого очерка уже отправились в Лучший мир, другие постарели, угомонились и стали называть себя просто «талантами», а то и вовсе «способными», когда из гениев в клубе осталось всего ничего, не больше десятка, я подумал — еще немного и уйдет все наше поколение, и можно будет уверенно сказать: «Прощайте, последние исполины!». Но не тут-то было — внезапно я заметил, что следом накатывает новый вал немыслимых талантищ. Как раз в то время у меня появились новые приятели — молодые поэты Иван Голубничий и Максим Замшев, два неразлучных друга, даровитых раскрасавца. Злостные курильщики и отчаянные выпивохи, они только вошли в литературу, но уже наделали немало шума. Как-то, поддавая с ними, я осмотрел нижний буфет и сказал:
— Раньше здесь восседало много гениев, а сейчас вон только Рейн и Шавкута, да иногда заходят Зульфикаров, Пьецух…
— Какие гении?! О чем ты говоришь?! — встревожился Голубничий.
— Гениев здесь всего двое, — прояснил Замшев. — Иван и я!
Как-то в ЦДЛ зашел поэт Владимир Друк и, чуть не плача, объявил мне:
— Закончил цикл таких стихов! Гениальных! Вся Москва зарыдает!
От некоторых приятелей литераторов я никогда не слышал подобных захватывающих слов — ну, что они гении, громадные таланты и прочее, но их деятельность убедительней слов.
Мой давнишний товарищ, старшина колонии молодых поэтов, Лев Щеглов демонстрировал магическое спокойствие, а для солидности ходил с палкой и носил бороду «лопатой», и внешне напоминал библейских персонажей. Он постоянно подчеркивал, что старше меня «на целых четыре года» и демонстрировал медаль, которую получил мальчишкой за тушение бомб зажигалок (я только собирал их осколки). Вечно безденежный Щеглов, когда за его стол подсаживались случайные посетители кафе, объявлял:
— Я поэт Лев Щеглов. И по знаку лев. Можно сказать, король поэтов, — и, кивая на бутылку сотрапезников, добавлял: — Обычно мне наливают те, кто сидят за моим столом (он всегда занимал один и тот же угол — вероятно, тянул на памятный знак).
Разумеется, случайные гости поспешно наливали поэту, а после того, как он читал стихи, брали вторую бутылку и были счастливы, что вот так, запросто, выпивают с выдающимся человеком.
Другой мой многолетний товарищ, отличный поэт Лев Котюков с недюжинной страстью натаскивает начинающих стихотворцев, правит их строчки, рекомендует в Союз писателей. В образе «вождя поэтов» он иногда чересчур увлекается; недавно заявил:
— Перечитал Блока, его всего надо править!
Ну, а если найдет слабые строчки у состоявшегося поэта, обрушивает на беднягу всю свою мощь:
— Ты такой же поэт, как я водопроводчик!
Если же кто найдет в его стихах погрешность, непременно услышит:
— Ты еще не дорос, чтобы понимать мои стихи! Цени, что живешь в одно время со мной!
Пишущий о цыганах нагловатый Ефим Друц беспрерывно расхваливает свои книги; просто так с приятелями не встречается — только по делу, «и телефон свой никому не даю — вот еще! — будут отрывать от работы, и вообще…». Такой интересный аргумент одержимого таланта.