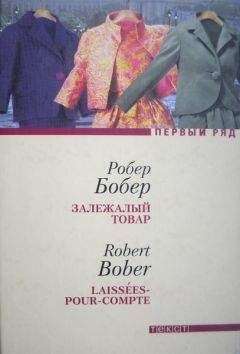— Я тоже, — начал он, — не люблю расставания, все эти последние спектакли, короче, все, что заканчивается. И все же должен быть последний день, иначе не было бы следующей пьесы, следующего съемочного дня.
Он был очень элегантен в своем двубортном пиджаке, светлом галстуке и с платочком в тон ему в нагрудном кармане. Он пришел спросить Даниэль Дарье, не согласится ли та сниматься в его будущем фильме «Карусель», съемки которого должны начаться в январе. Он видел все ее фильмы, а она обожала «Письмо незнакомки».
— Я позволил себе принести вам сценарий, — сказал ей Офюльс. — Это не совсем то, что у Шницлера. Возьмите, это вам.
Но тут постучали в дверь. Пришла костюмерша:
— Простите, я за костюмами.
И она в последний раз унесла «Месье ожидал». Как и все прочие костюмы спектакля, жакетку сложат и уберут в корзину, и теперь разве что ветерок донесется до нее со сцены.
— Зейде[6], зачем Господь создал темноту?
— Чтобы человек мог познать отдых, Гершеле. Но не только. Говорят, еще для того, чтобы люди могли сами создавать другой свет, который продолжит дневной. Вот почему я делаю подсвечники, призванные по вечерам поддерживать свет, идущий от свечи. Этот свет хрупок, он дрожит, ему угрожает малейшее дуновение, вот почему его надо оберегать, даже если он не обладает чистотой божественного света, освещающего все на земле.
Рафаэлю Гершу Франкелю, которого его дедушка Вольф Лейб ласково называл Гершеле, было семь лет. Он жил в Пшемысле, захудалом городке вблизи украинской границы, в крохотном домишке, вместе с родителями и бабушкой с дедушкой. В первом этаже дома располагалась лавка деда, жестянщика. Но Вольф Лейб Франкель не довольствовался изготовлением жестяных форм для праздничных пряников, подсвечников, ханукальных светильников и других предметов культа. Он был еще и фонарщиком, а зажигать фонари любил в компании своего внука.
Гершеле тоже нравились эти минуты, проведенные с дедушкой. Каждый раз, когда он видел, как начинают сверкать дедушкины седые волосы и длинная белая борода, ему казалось, свет проникает в деда насквозь.
По субботам, после синагоги, дедушка, держа внука за руку, шел на берег реки Сан посидеть на лавочке. Там, глядя на польских рыбаков, отпускающих по волнам свои поплавки, они продолжали беседу. Но зейде не всегда нужны были вопросы внука, чтобы рассказывать. Гершеле научился слушать истории молча, ибо молчание тоже было способом задавать вопросы.
Он не всегда понимал, что говорит ему дед. Тогда он глядел на реку, берущую свое начало в Карпатах, а в конце впадающую в Вислу, еще более полноводную реку. В хедере ему рассказали, что, омыв десятки городов, Висла в свою очередь впадает в Балтийское море, такое огромное водное пространство, где не видно другого берега, — чего он никак не мог себе представить.
Еще Гершеле не мог себе представить, каким важным окажется для него это полученное от деда образование, и до какой степени он еще будет полон им, когда тридцать лет спустя, в Париже, предпримет постановку пьесы Чехова «Дядя Ваня».
Этот год, 1920-й, стал последним, который он провел в Пшемысле. Семья в полном составе, по причинам, каковые ему объяснить не удосужились, покинула Польшу и обосновалась в Вене.
Сначала они сели на поезд до Лемберга, столицы Галиции, потом на другой, который, преодолев расстояние в восемьсот километров, прибыл на Северный вокзал Вены, где их ждала Хана, сестра Гершеле.
Хана была на двенадцать лет старше Гершеле и в Вене обосновалась не так давно: выйдя замуж сразу после войны, она приехала к своему мужу Максу, фотографу, как только тому удалось поступить на работу в агентство фоторепортажей «Фот-Рюбельт».
В начале 1950 года в Париже, в своей маленькой квартирке на бульваре Огюста Бланки, совсем рядом с метро «Корвизар», там, где пути, прежде висевшие в воздухе, сразу после станции уходят под землю, Рафаэль Герш в десятый раз, а может, и больше, перечитывал «Дядю Ваню» Чехова. Он решил поставить эту пьесу к началу сезона. Уже выбраны семь актеров. Остается найти восьмого, того, что должен исполнить роль доктора Михаила Львовича Астрова. Все сходятся во мнении, что именно он — alter ego Чехова. Это-то и делает выбор особенно сложным.
На этот раз, сосредоточившись на всем, что произносит доктор Астров, Рафаэль остановился на реплике во втором действии:
«Знаете, когда идешь темной ночью по лесу и если в это время вдали светит огонек, то не замечаешь ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу…»
В его памяти внезапно возник образ дедушки, зажигающего фонари в Пшемысле, и словно в знак признательности он старательно переписал эту фразу. Теперь он может оценить то, что получил от своего зейде, его слов, поступков. Что-то из того, что ему хочется совершить, встало на свое место. Незабытый, почти запертый в нем, его детский опыт поможет ему — он только что понял это — преодолеть препятствия. И он записывает: «Ставить на сцене тексты, написанные другими, не означает забыть о себе».
Когда в 1935 году Рафаэль в одиночестве уехал из Вены в Париж, он увез с собой в чемодане пару подаренных ему дедушкой по случаю его бар-мицвы подсвечников и три фотографии, сделанные Максом, мужем сестры Ханы.
Первый снимок был сделан на венском вокзале. На нем в день приезда запечатлена вся семья, стоящая среди многочисленных чемоданов и улыбающаяся фотографу. Не улыбается один лишь Гершеле. На нем кепка с широким околышем. Ее купили накануне отъезда, она была сильно велика ему, и он помнит, что терпеть ее не мог.
Вторая фотография — это портрет деда. Молитвенное одеяние закрывает его плечи. Лбом он опирается на левую руку. На маленьком столике перед ним раскрытая на середине книга, он держит ее другой рукой. Этот снимок сделан в ателье при освещении, похожем на то, что возникало в Пшемысле, когда они зажигали фонари. Распечатанный во множестве экземпляров, снимок стал открыткой, и его посылали оставшимся в Польше или уехавшим в Германию родственникам. Эти дядья, тетки, кузены — Абуши, Берги, Подрулы, Пики и Вейсы — на третьей фотографии, сделанной по случаю семидесятипятилетия общего дедушки. Всего двадцать человек. Вольф Лейб сидит в центре. Женщины тоже сидят. По три с каждой стороны. Совершенно симметрично у двоих из них на коленях по младенцу. На заднем плане стоят мужчины. Один из них, Мендель, положил правую руку на плечо дедушки. Вероятно, по просьбе фотографа трое ребятишек лет десяти сидят на земле на чем-то вроде толстого ковра. У самого края фотографии, справа, если на нее смотреть, еще один мальчик. Ему должно быть что-то около четырнадцати лет. На нем маленькие круглые очки.
Вольф Лейб Франкель умрет в следующем, 1929 году.
Похороненный на старом еврейском кладбище в Зеегассе, он не увидит уничтожения своего народа и большей части своей семьи.
Рафаэль отложил «Дядю Ваню» и, склонившись над столом, через лупу внимательно разглядывает фотографию дедушкиного юбилея. Эти лица он прекрасно знает, он помнит их. На этот раз его внимание привлекает одежда. Кроме ломаного воротничка сорочки дяди Отто Пика, она не выглядит вышедшей из моды. В моде, когда она касается того, что носят на улице, нет ничего особенно приметного. Эта одежда и впрямь не устаревает. Она даже как-то привычна. Вот что заставляет Рафаэля задуматься: ношеная одежда.
Так что, когда спустя несколько недель его художник по костюмам, показывая ему образцы тканей, заговорил о гармонии цветов и исторической правде, он категорически заметил:
— Никаких костюмов! У новой одежды нет истории. Я хочу живую одежду. Одежду, которая до сцены уже была персонажем.
И прежде чем определиться в своем выборе, они вдвоем отправились рыться в корзины Траонуеза, торговца с улицы Лакюэ, сдающего одежду напрокат, а потом к Ваше, в квартал Риверен.
Так после восьми месяцев заключения «Месье ожидал» перешла от Саша Гитри к Антону Павловичу Чехову.
Если к тридцати семи годам Рафаэль еще ничего не ставил в театре, то лишь потому, что не думал об этом. Однако в Вене, с несколькими университетскими приятелями, вместе с которыми изучал литературу и историю, он бывал на многих театральных постановках в Бургтеатре. Особенно их потрясли спектакли, поставленные Максом Рейнхардтом до того, как в 1933 году он эмигрировал в Америку. Эти постановки стали темой бесконечных обсуждений, когда после спектакля они собирались в кафе «Централь» или в «Музеуме»; вечера их заканчивались двумя-тремя партиями в шахматы.
Когда Рафаэль оказался в Париже, знание языков (польский, идиш, немецкий, а также французский, выученный в «Академише Гимназиум») привело его на работу в комитеты по приему беженцев; с тех пор как в Германии к власти пришли нацисты, беженцев становилось все больше и больше. В 1938 году, после «Хрустальной ночи», когда открылись первые дома для сирот из Германии и Австрии, его пригласили работать воспитателем в Монморанси.