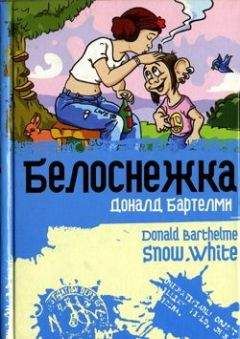– Понятно. Так что же, эта проблема большой черной лошади – она тоже относилась к этому классу скаутских таинств.
– Нет. Она имела характер угрозы, наказания за преступление. Я преступил правило.
– Какое правило?
– Практическое правило, относящееся к котлам. Нам полагалось чистить котлы илом и песком. А я брал «Аякс».
– Это одно из скаутских таинств – скрести котлы песком?
– Само собой.
– Стало быть, ваше преступление состояло в противлении скаутским таинствам.
– Это оно и будет, если брать обобщенно.
– И какова же была реакция Фондю и Мэхта?
– Они сказали, что есть такая большая черная лошадь, и она имеет в виду меня съесть.
– Прямо так и сказали?
– Сказали, что она придет за мной ночью. Я лежал без сна, в ожидании.
– И она появился? Эта лошадь?
– Нет. Но я ее ожидал. И ожидаю до сих пор.
– Еще один вопрос. Верно ли, что вы допустили, чтобы огонь под чаном потух? Шестнадцатого января, когда вы увлеклись своей персональной вендеттой?
– Да, это правда.
– Чаноубийство. Преступленнейшее из преступлений. Да, Билл, невеселые у вас перспективы. Очень и очень невеселые.
БЕЛОСНЕЖКА ДУМАЕТ: ДОМ…СТЕНЫ… КОГДА ОН НЕ…Я НЕ…ВО ТЬМЕ… ПЛЕЧИ…СТРАШНО… ВОДА БЫЛА ХОЛОДНАЯ…ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ…ЛЕГКО И ПРОСТО…БЕЛОСНЕЖКА ДУМАЕТ: ПОЧЕМУ Я…СТЕКЛО… ССУТУЛИЛСЯ У СТЕНЫ…РАЗУМЕНИЕ… ВЕРНУТЬСЯ…СТЕНА… РАССУДОК…ВЕРНУТЬСЯ… ОН ХОЛОДЕН…ЗЕРКАЛО…
– И еще надо запоминать, как все пишется, – сказал Пол Эмилии. – Вот первое, от чего мне невыносимо в иностранных странах. Ну кто способен правильно написать «Jeg føfler mig daarligt tilpas»! А значит всего-то: «Мне нехорошо», но это я и без того знаю. Что мне нехорошо. Но вот если бы это значило, к примеру, «Жёг фюрер мир за армий титьки»…
– Понимаю, – сказала Эмилия, только она этого не сказала, потому что она была животное. Не человек. Ее проблемы – не наши проблемы. Ну ее.
– Я стараюсь вести себя разумно, – сказал Пол. – С телефонной компанией – вежливо, с банком – бесцеремонно. А ничего другого они и не заслужили, этот банк, кроме бесцеремонности, и пусть присылают сколько угодно семян цинии, все равно я останусь при своем мнении. Но теперь, когда я ушел в Телемскую Обитель, под начало нашего толстопузого аббата, я делаю все, что мне заблагорассудится. Этот веселый проказник и притворный педант снова в стельку и знать не знает, что я здесь, на войне кошкопродавцев, сшибаю грошик-другой как корреспондент журнала «КошеМир». Жаль только, нету со мной Белоснежки. Ей было бы хорошо, мне было бы хорошо, мы могли бы заползти за вон ту груду использованных аркебузных пыжей и рассказывать друг другу, какие мы на самом деле. Я уже знаю, кто я на самом деле, но пока не знаю, кто на самом деле она. Возможно, на самом деле она не такая, как прочие девушки, которых я знал доселе, – не такая, как Джоан, не такая, как Легация, не такая, как Мэри, не такая, как Амелия. Не такая, как все эти дамы былых времен, с кем я проводил части своей юности, те части, что я пооставлял всем этим попам во всех темных клетушках с занавесочками и раздвижными дверками, пока не связал судьбу с телемитами и не начал делать все, что мне заблагорассудится. Положа руку на сердце, я не совсем уверен, что теперь я лучше, чем был тогда, в былые времена. Тогда я по крайней мере не ведал, что творю. А теперь ведаю.
«Пол лягушка. Насквозь лягушка. Я думала, что в какой-то момент он сбросит свой болотно-склизкий, пупырчато-бородавчатый, буро-зеленый покров и явится омытым сотнями блистающих оттенков принцеобразия. Но он – чистая лягушка. Вот так-то. Я разочарована. То ли я переоценила Пола, то ли я недооценила историю. И в том и в другом случае я допустила серьезнейшую ошибку. Вот так-то. И не иначе. Я была разочарована и буду, вне всяких сомнений, разочарована далее. Полное разочарование. Вот так-то. Лужа на ковре. Лягушачьи лапки на полу».
– Я люблю тебя, Белоснежка.
– Я знаю, Хого. Знаю, потому, что ты говорил мне это уже тысячу раз. Я в этом не сомневаюсь. Я убеждена в искренности и теплоте твоих чувств. И должна признать, что твоя рослая брутальность произвела на меня отрадное впечатление. Твоя прусская стать не оставила меня равнодушной, равно как и петли хромированных цепей на твоем мотоциклетном дублете, а также изящные шрамы на левой и правой твоих щеках. Но «любви» этой не суждено сбыться, причиной чему твоя кровь. Кровь в тебе – не чета этой «любви», Хого. Твоя кровь недостаточно голуба. О я знаю, что в нашу демократическую эпоху вопросы крови считаются несколько de trop,[22] на них отчасти косятся. Люди не любят, когда люди говорят о своей крови либо о крови других людей. Но я-то не «люди», Хого. Я это я. Я должна держать себя про запас для принца либо человека принцеподобного, кого-нибудь вроде Пола. Я знаю, что Пол до сего момента не производил особо приятного впечатления, и, если по правде, я его совершенно презираю. И все же, Хого, в его жилах течет кровь королей, королев и кардиналов. У него голубая кровь наивысшей пробы. А в твоих, Хого, жилах кровь течет самая заурядная, такая могла бы течь в чьих угодно жилах, ну, к примеру, у мальчишки разносчика полотенец. Ты же не можешь не признать, что они весьма разного вида, эти две разновидности крови.
– Но как же любовь? Любовь, которая, по словам Стендаля, властно захватывает наши чувства и с головокружительной беззаботностью отвергает все прочие соображения?
– Ты, Хого, очень удачно подметил насчет «головокружительной беззаботности». Именно в этом состоянии я и не нахожусь. Я спокойна. Я спокойна, как лампа, спокойна, как государственный секретарь. Мое спокойствие уравновешивается твоим головокружением.
– Знаешь, Белоснежка, твои кровяные доводы весьма весомы, и я признаю, что здесь есть зазор – между кровью моей и кровью царственной. Зато в моей крови горит лихорадка. И я предлагаю эту лихорадку тебе. Моя кровь словно полна огня святого Эльма, настолько горяча она и заряжена электричеством там, у меня внутри. Если эта лихорадка, эта грубая, но при том благородная, страсть хоть отчасти возвышает меня в твоих глазах либо в какой-либо другой твоей части, тогда, быть может, и не все еще потеряно. Ибо даже дурной человек может иногда устремить взор свой к звездам. Даже дурной человек может дышать и надеяться. Я цепляюсь за надежду, что, едва осознав во всей полноте всю ярость горящей во мне лихорадки, ты сочтешь ее облагораживающей, а меня – облагороженным, и я вдруг явлюсь тебе приемлемым супругом, хотя прежде таковым и не являлся. Я знаю, такая надежда шатка.
– Нет, Хого. Она ничуть тебя не облагораживает, эта самая лихорадка. Я бы, может, и хотела бы, но – нет. С моей точки зрения, это самая рядовая лихорадка. Две таблетки аспирина и запить водой. Я знаю, это банальная и даже жестокая рекомендация, но других у меня нет. Меня самое уж столько лупили со всех сторон все эти последние происшествия и непроисшествия, что еще немного – и я попросту взорвусь. Доброй тебе ночи, Хого. Уноси куда подальше свое порочное обаяние. Свое мастерски смастеренное порочное обаяние.
Мы сидели в придорожном кафе и вспоминали о днях былых. О тех, что быльем поросли. Затем подошел хозяин. С ним был полицейский. Полицейский носил черную кожаную дубинку и книгу Рафаэля Сабатини.
– Вы слишком далеко на тротуаре, – сказал полицейский. – Вы должны сидеть по ту сторону деревьев в кадках. Вы не должны выдвигаться более чем на десять футов от линии здания.
Мы передвинулись за линию здания. Мы могли с равным успехом вспоминать о днях былых на любой стороне деревьев в кадках. Мы вели себя мирно и дружелюбно, мы всегда так. Но, перемещая столик, мы расплескали напитки.
– Я выставлю вам дополнительную плату за запятнанную скатерть, – сказал хозяин.
Тогда мы стали поливать остаток скатерти остатком напитков, пока она вся не стала одного цвета, красно-розового.
– Покажите нам это пятно, – сказали мы. – Ну где оно, это пятно? Покажите нам пятно, и мы заплатим. А пока вы его ищете – еще напитков.
Мы любовно оглянулись через несколько дюймов пространства на то место, где сидели прежде. Полицейский тоже оглянулся через эти несколько дюймов.
– Я понимаю, что там было лучше, – сказал полицейский. – Но закон есть закон. Вот в том-то с ним и беда, что он закон. Вы не возражаете, если я попробую ваше пятно?
Полицейский выкрутил нашу скатерть и отшвырнул ее под туш духового оркестра.
– Прекрасное пятно. А теперь, если не возражаете, я интуитивно прозреваю уголовное преступление на Плиссирной улице.
Полицейский упорхнул разбираться со своими преступлениями, хозяин вернулся с добавкой пятна.
– Кто переморщил мою скатерть? – Мы посмотрели на скатерть – зона бедствия, ничего не скажешь. – Кто-то заплатит мне за глажку.