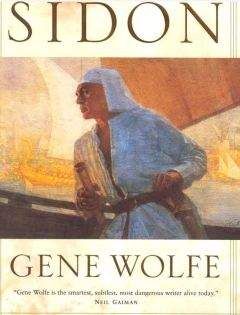Ознакомительная версия.
— Ну привезли… Ментовка, думашь?! Обычная, думаешь, ментовка?! Хера с два. Необычная! С чего начали? Думаешь, пытки на Лубянке все закончились?! В блаженное сталинское время?! — Он так заорал, что у меня уши заложило. — Они мне… делали… «ласточку»! Скуют наручниками руки за спиной… пропустят под цепью стальной прут… висишь, ноги пола не касаются… а эти, шкыдлы, бьют дубинками… по почкам… Страшная бо-о-оль! — Он говорил без передыху, а мой зад примерзал к земле. — Потом меня клали на пол… веревкой подтягивали ноги к рукам, а руки — в наручниках… Плечо вывихнули! Я орал как резаный баран! Кричал им: застрелите меня лучше, ёб вашу мать! Сознание терял. Холодную воду из ведра на меня выливали! Кричали: мы перекрыли все твои счета, сучонок! А я им кричал: так это милиция или нет?! Где я?! А они мне вопят: моя милиция меня бережет! И раз — наручниками — к стулу прикуют! Не пошевелишься. И на голову — раз! — целлофановый пакет. Слышу как сквозь вату. Задыхаюсь! Крикнуть хочу! А мне глотку ремнем перехватят, и я только, как лягва, рот разеваю… А потом, когда всё, кранты, когда смерть зовешь! — развязывают тебя, и за ноги волокут, тащат… по цементному полу… в камеру… в твою камеру… тесную, как, ёб, бочонок из-под пива… и… бросают туда, как падаль… да ты и есть падаль… Ты уже — отброс… Ты! Самый богатый чувак на свете. Знаешь, что я тебе скажу, дед? Ты — счастлив! Ты, блядь, ангел! Ты ж никогда богатым не был! И — не будешь!
— Раньше сажали в тюрьму ни за что. А тебя-то за что?
Я старался очень мягко произнести это. Чтобы не обидеть.
— За деньги, дедок! За деньги! За счастье жить! За красавицу жену! За успех! За…
— Вам позавидовали, — тихо сказал ему я, не зная, что еще тут сказать. Слишком уж страшный его рассказ получился.
И внезапно понял я тут, что мир — это тоже война, что белый свет не делится на войну и на мир, а все на свете есть война; все воюют и сражаются, подсиживают и убивают, пытают и издеваются, и каждый, кто посильней, пытается убить, сгнобить того, кто послабей. Вот, Васька, какие дела— то. Чем бы мне утешить старого битого медведя, подумал я — и поднял лицо свое в тюрбане из старого бандитского шарфа, и выдохнул:
— Это самое, это… Не переживайте. Всё позади. А я, кстати, тоже повидал. Я — на войне был.
Медведь склонил ко мне, сверху вниз, тяжелую, свинцовую голову. И я увидел глаза медведя. Они были маленькие и круглые, в них плескалась не обозримая умом боль. Не вытравить, не вылечить ничем. Глаза зверя побегали по моему лицу, по моим рукам, недоверчиво ощупали — правду ли говорю, — метнулись в сторону, выловили из толпы торговок бьющийся на ветру из-под старого истопницына ватника ситчик в мелкий цветочек.
— На войне? — А сам смотрел на жену, на жену свою.
— На войне.
— Где?
— Не все ли тебе равно? Там меня теперь нет.
— И что? Что скажешь?
— Там тоже смерть. Там тоже человек грызет человека. И спасенья нет.
— Но там есть герои! — Он опять криво оскалился. — Герои! Настоящие! Вы же за что-то умирали, ёб!
Зверьи глаза горели первобытным, тяжелым вожделеньем.
А я бы хотел, я бы желал, чтобы они горели любовью. Но как теперь это сделать, это чудо? Как превратить медведя — в человека?
— Мы не знали, за что умираем. Нам приказали.
— Это меняет дело, — мрачно сказал бывший зэк.
И задушенно крикнул, позвал:
— Эрдени!
И тут же выкрикнул воровато:
— Люська!
И жена его медленно, царственно обернулась. И выставила из-под платья голую ногу в капроновом чулке, потянув за ситцевый подол рукой и обнажив колено. Нога под паутиной капрона алела на морозе. Раскосые безумные глаза, полные ветра солнечных кумысных степей, погладили по лицу меня, Иссу, а медведя — расстреляли.
Девчонка, что ты творишь?! Я не успел крикнуть — крик смерзся в глотке. Монголка танцевальным, раскидистым, шатающимся шагом прошла, плывя лодочками по белой реке рыночного снега, к нам обоим, распахнула ватник, взяла на бечевке крестик с груди, поцеловала его и засмеялась, и стала выталкивать слова из себя, как алые, сладкие, пьяные ягоды:
— Ты любишь меня?!
— Люблю! — взревел медведь.
— Ха-ха-ах! А я тебя — нет! Я вот — его полюбила! Он хорошо танцует! Лучше, чем ты!
Я все еще сидел на снегу, у ног ее мужа, и она положила руку мне на тюрбан, и ее ладонь леденила мне затылок через все слои древней шерсти.
— Слушай меня, муженек! Ты все врешь, что любишь меня! Вот раньше любил так любил! До смерти бил — вот как любил! А теперь что! Теперь — поборись с ним! — Она указала на меня пальцем. — С ним! За меня! На ножичках! Эй, кидай ножи! Надо — два!
— Эй, атас! — донесся через головы и спины хриплый голос. — На, баба! Лови!
Медведь ловко поймал два брошенных длинных ножа. Они сверкнули на солнце омулями.
И один нож полетел мне в грудь. И я поймал его, раскрыв рот, как рыба.
— Давай! — кричала Люська-Эрдени, и ситцы ее мяли и крутили жесткие руки морозного ветра. — Бейся, ты, мужик! Или ты не мужик?! А то уйду к нему!
— Да ты и так уйдешь, — бормотнул Медведь.
Я и оглянуться не успел, как он ринулся на меня с ножом. Все очень быстро потекло, как дикий ледяной ручей в Саянах. Я выставил вперед руку, лезвие лязгнуло о мое железо, и краем глаза я заметил, какие хорошие ножи кинул нам мужик из рыночной толпы — отличные, лезвие наточено так остро, что разрежет и капот автомобиля, конец закруглен и чуть при поднят, как курносый нос — это чтобы удобней было ткнуть в шкуру зверя, поддеть кожу изнутри — и тут же, хакнув, мощно нажав, утвердив нож в ране, располосовать. Да! Верно! Ножи медвежатников! Как я не понял сразу!
Против меня стоял и рубил воздух, пытаясь ножом досягнуть до меня, человек по имени Медведь. У него было богатство, но ничего от него не осталось. У него была любимая жена, да ее сожрали клиенты и сутенеры. У него был мир! А осталась только война.
Как он еще не сошел с ума, не знаю!
И мысль мелькнула, как острый нож: а я-то вот… сошел…
— О! Молодец, тангеро! — завопила Люська. — Классно дерешься! Задай ему жару! Порежь ему морду!
Я глупо, нерасчетливо ринулся вперед — и напоролся, идиот, грудью на вовремя выкинутый Медведем вперед нож, и лезвие легко, как брус масла, разрезало мой зипун. Я ощутил за пазухой странное, сильное тепло, будто мне туда щедро накидали горячих, только что вынутых из печи углей. Будто б это я, сам у себя дома, жарко натопил печь, и стряхнул кочережкой угли на совок, и сам себе, дурень, под рубаху высыпал.
Ослепнув от огня в груди, я маханул всем туловом вперед. Эта женщина хочет, чтобы один победил в битве за нее! Я никогда не дрался за бабу. И за девку никогда не дрался. Хотя все парни дрались, в свое время. А я вот — нет. И вот сподобился.
Народ, стоявший кругом, дружно завизжал. Визжали бабы, ну как водится. Нож мой в моем кулаке сам, без моего согласия, описал широкую дугу, и я не понял, почему передо мной мотается красный наш, старый советский флаг, откуда он-то тут, флаг великой, мертвой Родины нашей?! Зачем?! Кто выбросил его на снег…
Окровавленная морда Медведя поплыла мимо меня, вниз и вкось. Его руки схватили прозрачный лед синего воздуха. Он стал падать. Я услышал запоздалый крик из его хриплой глотки, когда он уже лежал на снегу. Из его разрезанного моим ножом лица обильно текла на снег свежая, слишком красная кровь.
Я прошептал: «Я не хотел», — и тупо, глупо стоял над Медведем со своим охотничьим ножом в руке, и по моему серому, подшитому овечьим мехом зипуну, по груди и животу моему, текло горячее, темно-вишневое, а в воздухе пахло солью, свежими омулями, разломленными гранатами, разрезанными лимонами, сахарным морозом и горьким табаком.
Тангера Люська схватил меня за руку, в которой я не сжимал нож. Подняла мою руку вверх.
— Он победил! Мой тангеро победил! Ах, я счастливая! Я… уйду с ним! От вас ото всех! Навсегда!
А в ушах у меня уже бились кровью свистки, и к нам уже бежали, и нас окружали, и выли сирены машин, и это они, да, они, насмерть перепуганные торговцы, вызвали милицию, «скорую помощь» и что там еще?.. ах, да, психбригаду, это я уж потом понял! Лежащего на снегу Медведя дернули вверх со снега, будто сорванное знамя на древко опять водрузить хотели. Мне — руки за спину, и что-то холодное, как болотная змея, обняло запястья, и резко щелкнуло в воздухе, как выстрел!
Наручники, дошло до меня.
Я много чего понял тогда, в тот миг, на черемховском гулком рынке.
Люди, накрывшие нас собой, как черной тряпкой, меня — вели, Медведя — несли на носилках, и гул стоял вокруг нас, и я понял внезапно: это — органный гул, это красивая женщина Лидочка, тезка моей второй покойной жены, играет на органе, а я сижу в зале и слушаю, и превращаюсь в ветер, в камни, в снег, в поднебесный рокот над ее гибкими змеиными пальцами.
А что, если все это — только музыка, все, что сейчас происходит со мной? И я сижу в органном концертном зале, в старом польском иркутском костеле, и сейчас отзвучит последний, самый отчаянный и торжественный аккорд, он тянется уже вечность, и я проснусь? И надо будет хлопать, нещадно хлопать в ладоши артистке. Пока не вспухнут. Не воспалятся. Пока не загорятся. Не…
Ознакомительная версия.