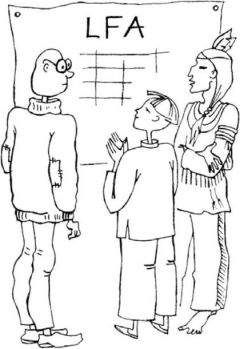Завороженный словами отца Брауна, я поймал себя на том, что снова взираю на могучие ветви пальмы. Сжег за стеклянной крышей прекратился; небо было лазурно-голубым, и можно было подумать, что сейчас разгар лета. Мне представилось, что я летаю, свободный, как птица.
Двое в конце колонны, произнес отец Браун, меня не слушают. По всей видимости, их мысли — о более высоких материях.
Я обернулся; ректор указывал на нас с Метерлинком. Я начал возражать, что, напротив, весь поглощен его речью.
Хватит! оборвал отец Браун. Жду вас в моем кабинете после вечерней молитвы. Засим занятие окончено.
После ужина мы с Метерлинком обменялись впечатлениями. На мой вопрос, что было у него на уме, когда нас одернул ректор, он ответил, что мысленно перенесся в летний дом своего дяди Мориса в Оостаккере. За окном спальни, где он лежал, слышалось жужжание пчел, занятых своей работой, и он представил себе стеклянный улей в кабинете дяди.
Копошение сотов из черно-янтарных тел казалось бесцельным, но он знал, что это далеко не так: танцем, касанием, запахом, дрожанием крылышек пчелы составляли коллективную карту ближайшей нектароносной местности. Метерлинк вообразил, что видит мир ячеистыми глазами пчелы — зернистый мир, где красный неразличим, но всюду разлит ультрафиолетовый, вне диапазона человеческого зрения. Более того, зрительная система пчелы функционирует на высокой частоте слияния мельканий, поэтому, если бы пчеле пришлось смотреть кинофильм, она бы видела разрозненные кадры, соединенные моментами темноты, и не поддалась бы иллюзии движения картинки.
Разумеется, продолжал Метерлинк, о том, что именно воспринимает пчела, мы не имеем ни малейшего понятия; однако можем ли мы знать хоть что-нибудь о внутренних переживаниях наших собственных собратьев, когда они называют цвета теми же именами, что и мы сами? Еще ни одному человеку не удалось заглянуть в помыслы другого.
В окно вплывал аромат цветущей сливы, а со стороны тернёзенского канала донесся вой туманного горна, перекрыв на мгновение гудение пчел. Метерлинк выглянул наружу: за дальним краем цветника скользил паровой пакетбот с облепленным пассажирами фальшбортом и чайками по кильватеру. Ему захотелось обрести крылья, чтобы улететь в необъятный мир, и тут его вернул к действительности голос отца Брауна.
Греза Метерлинка воодушевила меня. Мне пришло тогда в голову, что он может стать мне братом, которого у меня никогда не было. Я рассказал ему, как, разглядывая стеклянную крышу оранжереи, заметил, до чего ее чугунный каркас напоминает трущиеся о нее пальмовые ветви с листьями, и представил его устройством живого организма, в который некий бог вдохнул жизнь, попрежнему трепещущую под зимним солнцем. Душа моя взорвала стеклянный пузырь и выпорхнула наружу. Воздух был остр, как бритва. Я чуял запах снега и клубков торфяного дыма, поднимавшегося из беленых фермерских домов, разбросанных по округе. Оттуда, с высоты птичьего полета, мне открылся вид всего "Дома Лойолы", и я понял, что протяженность его даже больше, чем я подозревал: громадная масса замка со множеством разрозненных лоскутков крыш, мансардных окон, выходящих во дворики, на конюшни, амбары, теплицы, застрявшие в столь же запутанном лабиринте огороженных садов и соединительных улочек. Дальше, по прибрежному шоссе, тащился черный «моррисоксфорд», попыхивая через выхлопную трубу белыми облачками, словно точками и тире, и на мгновение я подумал, что, может быть, это дядя Селестин едет меня проведать; но машина свернула на проселочную дорогу и исчезла. Однако я утешался письмом от моей двоюродной сестры Береники, которое получил в то утро. Я как раз собирался мысленно его перечесть, когда раздался голос ректора и призвал меня обратно в срединный мир.
Хочешь прочесть это письмо? спросил я. Метерлинк ответил, что был бы весьма польщен.
"Здравствуй, братишка!
Надеюсь, мое письмо застанет тебя в добром здравии. Прости, что так долго не отвечала, но загружают нас в "Св. Димпне" прилично: матьнастоятельница говорит, мол, хочет, чтобы ее девочки трудились, как пчелки, и, дескать, у нас нормальный рабочий улей. Как ты увидишь из этого письма, нас учат разбивать текст на абзацы. В учебнике говорится, что абзац — это четко выделенная единица рукописного или печатного материала, которая начинается с новой, обычно красной, строки, состоит из одного и более предложений и, как правило, выражает единичную мысль либо тему, или же цитирует непрерывную речь одного из говорящих. Так что, говорим мы абзацами или нет — это кому как покажется.
Или еще — нас учат, что хороший стиль не допускает повторения одного слова на отдельно взятой странице, но это, конечно же, ерунда, ведь тогда будет практически невозможно написать «что», «на» или «и». Смотрю, я уже дважды использовала слово «письмо» в одном абзаце, так что, всё, приехали. И слово «абзац» вдобавок.
Ну, да ладно. Ты ведь помнишь, я писала, что у матери-настоятельницы в кабинете висит копия Картины. В общем, стоим мы как-то раз в очереди за причастием, а там, знаешь, по пути ряды свечей у образа Мадонны, ну, я отковырнула кусочек натека, потому что люблю мять и катать мягкий воск между пальцами, а мать-настоятельница меня застукала, и пришлось потом идти к ней в кабинет.
И вот, начинает она мне рассказывать, что, мол, в отличие от церквей при обычных школах, в "Св. Димпне" свечи делаются из настоящего пчелиного воска, и если бы я только знала, каких трудов стоит пчеле произвести однуединственную крошку воска, то не обращалась бы с ним столь небрежно. Затем переходит к девственности пчел, и что воск, мол, символ Пресвятой Девы, фитиль — это душа Христова, а пламя — Дух Святой, и указывает на Картину. Ты ведь помнишь свечу на Картине — и знаешь, клянусь, мне показалось, что она и впрямь горит. С минуту я думала, что упаду в обморок, но взяла себя в руки.
Вообще-то, обморок в "Св. Димпне" — вещь популярная, что неудивительно, если вспомнить овсянку с комками и пирог с бараниной, а некоторые девчонки всё время падают, чтобы выйти из класса. Но, одну как-то нашли без сознания ночью в коридоре, и все теперь говорят, что она, наверное, увидела призрак монашки, который там обитает, — я тебе про него рассказывала, — а некоторые клянутся, что слышали звон ее цепей. Лично я ничего не слыхала, но девчонку, у которой был обморок, собрали и отправили в Бельгию, потому что, когда ее наконец привели в чувство, она неделю лежала парализованная, а в Бельгии есть специальные доктора, которые лечат подобные вещи.
Мать-настоятельница назначила мне дополнительное задание — надо было переписать вот это стихотворение десять раз самым красивым почерком:
Трудолюбивая пчела
Проводит с пользой день,
И взятку с каждого цветка
Ей собирать не лень.
О, сколь старательно она
Из воска строит сот,
В котором сохранить должна
Душистый сладкий мед!
Пускай вот так, среди забот,
Тенет моя весна,
Не то занятие найдет
Ленивцу Сатана.
Пускай в учебе и в трудах
Проходят день за днем,
Чтоб о растраченных годах
Мне не жалеть потом.
Как видишь, у старушки в голове пчелы завелись. Могу только сказать, что место это всё страньше и страньше. А у тебя как?
С нежнейшим приветом,
Береника".
Все это чрезвычайно интересно, сказал Метерлинк. Как раз в том, что твоя кузина столкнулась с метафорой пчелы за день или два до того, как сходные мысли посетили меня, ничего необычного нет; но, учитывая особую роль в этом картины ван Эйка, творчество которого, похоже, повлияло и на мою жизнь, и на твою, и на ее, создается впечатление, что нам троим суждено стать участниками каких-то событий, смысл которых пока непостижим.
В связи с этим мне вспоминается история, которую рассказал мне дядя Морис. Она касается происхождения английского слова «serendipity» (" прозорливость"). Как-то раз дядя послал меня купить скипидара, для чего дал мне монету в один франк. Увы! Когда я дошел до лавки художественных принадлежностей и сунул руку в карман, денег там не было. Но, возвращаясь той же дорогой и внимательно осматривая в поисках монетки тротуар и сточные канавы, я нашел вместо нее пятифранковую банкноту, застрявшую меж прутьев водосточной решетки. Когда я рассказал об этом дяде, он заявил, что это был пример «serendipity», интуитивной прозорливости — это английское слово долго интриговало его.
Предприняв некоторые изыскания, дядя выяснил, что слово изобрел Хорас Уолпол, автор готического романа "Замок Отранто". В его употреблении оно означало счастливую или любопытную последовательность событий, от названия сказки "Три принца Серендиппских", где упомянутые принцы по дороге постоянно благодаря случаю или прозорливому уму находили то, чего не искали: например, один из них подметил, что незадолго до него по дороге прошел верблюд, кривой на правый глаз, потому что лишь слева от дороги трава была объедена.