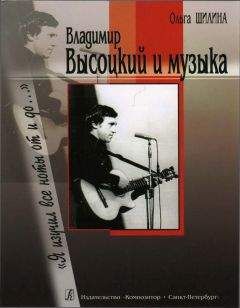Мы были тем, что давало порыву вперёд баланс, опору на память, на знание.
Но потом пришли комсомольцы. Что они знали о дыхании реставрации? И когда их орава заткнула нам рот, сняв торможение с маховика Революции, то мясорубка смолола и их самих. Обновленье без памяти, остававшейся у нас, не у них, давало лишь бесконечно ускоряемое вращение вокруг собственной оси. Казалось, смене худшего ещё худшим не будет конца, и когда вдруг захотелось отрезвляющего удара извне, то пришли немцы.
Мы, наивные, думали, что комсомольцы — это другие. Но разве мы не корили себя самих за нерешительное отвержение прошлого? Что ж открещиваться от тех, кто шёл до конца? Мы думали, что немцы — абсолютно внешняя сила, тщащаяся разрушить то, как мы жили. Но разве то, как мы жили, нам нравилось? И разве, будь мы готовы встать сразу и прочно на их пути, они бы дошли сюда, взяли бы нас в кольцо? Мы думали, немцы — „другие” в квадрате.
А это всё были мы.
Апрель месяц. Числа и года не было. Время остановилось.
Кончилась партитурная бумага. Нет желанья линовать огромные, больше никому не нужные ватманские листы. А чернил и грифеля, как в насмешку, хоть отбавляй. Как и чертёжной сверхпрочной бумаги (она просто плохо горела зимой). И вообще — нету сил. Но главное, последнее, то, что неотменимо прояснилось на исходе ужаса: в тишине, без налётов и обстрелов и без сосущего голода, — в мозгу. Серия вариаций, зазвучавшая под сирены первых налётов вечность назад — фантастической осенью, — задумана правильно. Какая тут диалектика я и не-я, мы и не-мы, когда внешнее и внутреннее одно, когда враг и товарищ только личины нашего собственного страха, самообмана, доблести и позора.
Не может быть контрастирующих тем, розно окрашенных голосов.
И быть не должно инструментов.
Действуют только основные явления и состояния в многообразной своей сочетаемости:
Город Голод Снег
Река Солнце Вера
Смерть Томление Жизнь
Вариация I:
Солнце Голод Томление
Снег Вера Река
Жизнь Город Смерть
Вариация II:
Томление Снег Солнце
Вера Река Жизнь
Голод Город — (не знаю)
Вариация III:
Смерть Томление Голод
Голод Томление Смерть
Томление Голод Томление
Вариация IV:
Вера — (не знаю) Вера
Томление Снег — (не знаю)
Снег Снег Река
Вариация V:
Жизнь Жизнь Смерть
Солнце Солнце Голод
Голод Голод Снег
Но знаю, как называется дело моей жизни, дело моей смерти, и я впервые не стыжусь произнести это название. Я, восемнадцать лет избегавший его и надеявшийся на воскрешение звонкой тени. Но тень стала вдруг пожирать солнце, выпивать иссосанное голодом, отравленное бесконечной печалью сердце.
Музыка уходит в подземное, а оно разрастается душным пожаром, заслоняя видимый свет.
Так вот — оно называется „Ленинград”. Именно так: Ленинград».
[1] «„Люблю, хочу, один ты мил мне, без тебя жить не могу”, — и прочее, чем женщины выражают свои чувства и в других возбуждают страсть» (пер. М. Кузмина).
Гришаев Андрей Робертович родился в Ленинграде в 1978 году. Окончил Ленинградский электротехнический институт. Автор поэтической книги “Шмель” (2006). Лауреат премий “Нового мира” (2007) и “Знамени” (2009). Живет в Москве.
* *
*
И тополей свет, рассветное их число,
Рассветное пенье птиц, и луг, и роса, и дальше.
А после в кровати с набалдашниками трясло,
Садился во тьме от кашля.
Малиновое варенье, от фельдшера табаком
Так пахло, как будто полжизни уже куда-то.
И все-таки тополиное светится высоко.
Больничная въезжает палата.
Нет, мы не умрём. И, смертной реке вопреки,
В смертельной воде поднимаясь все выше,
Рождаются из ниоткуда солнечные пузырьки,
По теченью плывут неслышно.
В каких же боях, по какой смертельной росе,
Какими почти семимильными мы шагали,
Чтоб свет удержать, чтобы свечи горели все.
Полжизни прошло? Едва ли.
Ликуй, злое детство. Ты вылечено и прошло.
Свинтил набалдашники. Где же, каким же светом
Гореть тополям? И всё же гореть назло.
Я жив? Ну и хватит об этом.
* *
*
Виталию Пуханову
Уступайте место мёртвым.
Поручень обняв рукой,
Привалясь к дверям с комфортом,
Вы — в дороге, вы — живой.
Только мёртвые не едут,
За часами не следят,
В их карманах нет билета,
Просто так они сидят.
Или сядьте, почитайте
Книжку страха и стыда,
Но и все же уступайте,
Уступайте иногда.
* *
*
Колеблется озеро. Зыбь и туман.
По берегу тихо идёт караван.
Я в медленном поезде. Чаю стакан.
Железо стучит под ногами.
Туман расползается. Лес впереди.
У всадника фляга висит на груди.
И что там ещё у меня на пути,
И что там ещё между нами?
Мне озеро снилось. Движенье весла.
И лошадь чужая поклажу несла.
И лошадь чужая… И так без числа.
И всадник откупорил флягу,
Но фляга пустая. Мне снилось ещё,
Как ты обнимала меня горячо
И, как в лихорадке, ещё и ещё.
И ночь превращалась в бумагу.
Так всё превращается в солнечный дым
Движением радостным, взмахом одним,
И снова за чаем сидим и глядим,
Как жизнь за окном пропадает,
Как праздничной гибелью лес напоён,
И травы горят, и мы едем вдвоём.
(А всадник у озера спешился. Он
Губами к воде припадает.)
Я вспомнил, как что-то цвело и ушло,
Как что-то светилось в ночи тяжело,
И солнце над озером бедным взошло
И скучную гладь осветило.
Невидимый близился Владивосток,
Я и лежать и сидеть изнемог,
А ты завернулась в пушистый платок
И чаю еще попросила.
* *
*
Будь счастлив, человек серьёзный,
Ребёнок с удочкой, рыбак.
В рассветный час травою росной
Идёшь и кашляешь в кулак.
Дойдёшь до озера, насадишь
За ночь заснувшего червя,
Закинешь поплавок, присядешь…
Тобою раньше был и я.
Как вспышка, озеро сияло,
Зелёный берег словно плыл,
И жизни целой было мало,
И я, как ты, серьёзен был.