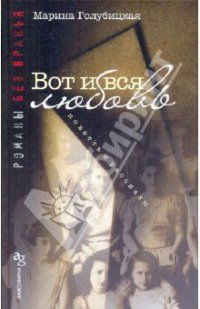— Фима, ты еще свой фотоаппарат покажи!
— А в чем дело? Шикарный фотик. Я купил его сам.
— Теперь это называется сам?
— Слушай, Бэлка, надень намордник! Все знают, что я нищий! Я клянчу у Жени на водку. Леня, чтоб ты знал, как ты меня расстроил своим «Абсолютом». Сколько простой водки можно взять за него?
— Меня взяли бы на таможне. Не плачь, Фима: я куплю тебе новую водку.
— Все, я спокоен. Дай посмотрю, что у тебя с часами.
Мне кажется, я в другом мире. С моим что–то произошло. Будто фильм включили с середины и без звука: не могу подключиться, не испытываю эмоций. Женя смотрит с сочувствием. Бэла не одобряет.
— Эй, подруга, Агата жрет твою косметичку! У тебя хотя бы диетическая косметика? Помоги–ка мне девочек выгулять.
Басю можно спускать, а Агата нервничает, когда ее дразнят то ли арабские, то ли афроеврейские грязные соседские ребятишки.
— Я б их убила. Я понимаю, что они приличных собак не видали, но животное в чем виновато?.. Что еще пары ножек не выросло?
У Бэлы с собой пакет для какашек, и я вспоминаю акцию Бренера. Бэла показывает мне домики с садиками, в каких хотела бы жить, чтоб собакам было вольготней… За ужином вся семья обсуждает план помощи старой учительнице. Так легче — говорить, обсуждать, верить, что все поправимо. Женя первая понимает:
— Если она такой человек, как ты рассказываешь…
Ухожу в «свою» комнату, Женину спальню. Мне надо привыкнуть. Что Елена старая, больная, почти нищая. Я привыкну. Но тяжело… Заходит Женя, садится рядом, обнимает. Я утыкаюсь ей в плечо, хлюпаю носом и злюсь на жизнь. Стараюсь не обреветься и — досадую оттого, что она считала меня юристом.
Таксист что–то говорит, показывая на Леню, Женя смеется.
— Что он сказал?
— Такой красивый, в такую жару, с двумя женщинами, и вдруг в музей.
Забавно: Леня нравится израильским таксистам. Третий раз нас спрашивают, давно ли мы из Америки… Может, здесь это модная шутка?
В музее Израиля — древности, ритуальное серебро, бирюзовая синагога… Я гляжу на часы. Думаю только про Елену. К нам присоединяется Бэла. Смотрим живопись, Бэла ведет к своей любимой картине — это крошечный Левитан, «Оседающий снег». Сугроб, подмытый ручьем, навис над водой, кромка вот–вот обрушится, поплывет. Возвращаемся. Я думаю про Елену. Впервые едем в автобусе, обычно Женя, оберегая нас от террористов, берет такси. Про взрывы и думать нельзя — я думаю про Елену. И по дороге, и дома. Даже не думаю, она просто во мне. Хочу снова ее увидеть. Смотрю на часы, смотрю в окно на тот холм. Женя догадывается:
— Хочешь поехать в Гило?..
— Только еще в магазин бы зайти.
— Тогда в арабский. Скоро шабат.
Звоню.
— Елена Николаевна!! Можно к вам приехать?!
— А вы хотите?.. Ну, приезжайте, я буду только рада.
Мы покупаем сладости, фрукты, цветы. Магазин скромный, цветы скромные — вроде тех астр, что мы дарили ей в День учителя. Женя заказывает арабское такси. Протягивает мне вазу — красивую, чешскую, она только что украшала Женину спальню.
— Возьми–возьми, она мне не нужна, ты же видишь. Бэлка обрадуется, что можно купить что–то еще… Ну, представь, вы принесете цветы, а куда она их поставит?
Я так и дарю эту вазу — от Жени. Е. Н. качает головой, жалея, что не разглядела Женю вчера и что зря мы тратились на продукты.
— Мне же ничего нельзя… А я угощу завтра Асю?! Ася придет, то–то будет рада… Ну что, на скамеечку?
Мы не загнаны в пространство одной встречи. Сидим на скамеечке. Глядим друг на друга расслабленно. Попрощались насовсем — и вот увиделись. Можем растратить это время впустую. Она рассказывает про соседку–учительницу, подробно, не торопясь. Я слушаю, зная, что ничего не запомню, здесь все рассказывают про чужие судьбы. Просто смотрю. Ей идет эта блузка.
— А мы сегодня видели снег!
— Правда, где?.. Я же была в этом музее — на выставке Писсарро. Как же я Левитана не заметила?
Значит, раньше она ходила лучше? Или она так и ходит по музеям? Леня хочет узнать ее мнение о статье. Диалог с его другом–художником.
— Ой, Ленечка, я заглянула, там слишком сложно. Но почитаю, обязательно почитаю.
— Это они эрудицию проявляли, — злорадствую я.
— Вчера первым делом я за Зоечку принялась. Я уж ей и письмо начала писать…
Зоя послала Е. Н. стенгазету. Очень старалась: среди наших трех дочерей ее не часто выбирают.
— Ну, пойдемте прогуляемся немножко. Я вам любимую синагогу покажу. Тут рядом, по пути в булочную.
Еще светло. Сегодня вечер пятницы. Мы видим идущих молиться мужчин, группами и поодиночке.
— Правда, похоже на корабль? Это пение. Этот свет…
Перед нами бетонное серое здание с желтыми огнями. Что она в нем нашла? Может, когда–нибудь и пойму. Она умеет выбирать…
Мы пьем чай из ее разномастных чашек. Я осмеливаюсь.
— Елена Николаевна, вы говорили, что у каждого должна быть в жизни роскошь. Русский эмигрант…
— У Ремарка?
— Да, с роскошными цветами…
— Встань, Иринка. Подойди–ка к окну.
Я подхожу к окошку–амбразуре. Там вечереющий свет. Ветви сосны. И холмы Иерусалима.
В субботу Женя повела нас к христианским святыням. Женя не знает экскурсоводческих текстов, но водит в такие места… Подъезд — обычный, с перилами, с почтовым ящиком на втором этаже. А на первом висит икона, горит лампада: здесь Иисус провел дни перед казнью. Где здесь?! Что именно сохранилось?.. Женя водила нас в нищую коптскую церковь — мне показалось, что коптский монах целовал меня не по–монашески.
Вечером заканчивался шабат. На улицах появились сначала мальчишки, потом появились автомобили. Замигали светофоры, зазвучала какая–то музыка, заработали магазины. Бэле хотелось, чтоб мы хоть что–то купили в «Каскаде».
— Смотри, сестрица, средство для стирки рубашек. Специально для воротничков.
— Я не стираю мужские рубашки.
— Тю-ю! Так тебя пора увольнять.
Пора. Я опять думаю только о ней. Леня сказал, чтоб сегодня я не надеялась: неудобно перед родней, нехорошо утомлять Елену, и, наконец, мы завтра утром уезжаем!
Набредаем на мебельный магазин. Я его вымечтала взамен визита. Бэла хочет показать Жене один диванчик… Я хочу купить стол и кресло. Женя с Бэлой спасают Ленин карман: стол дороже и не войдет… Все останавливают выбор на кресле. Мне не нравится расцветка. Но другой нет. Я диктую адрес Елены.
В этот раз не пришлось долго ждать. Мы улетели в Эйлат в воскресенье, а в понедельник она уже села за письмо — первое, которое я получу в России.
Дорогие Ирина и Леня!
Уж сколько дней живу впечатлениями от вашего визита. Мои подружки — и те ахают: «Ах, какая пара! Какая пара! Так это Ваши родственники?»
«Да нет, ученики, только давнишние».
«И они Вам совсем–совсем не родня?»
«Да нет, просто я их учила».
А про себя думаю: «Вот так учила, вот так любимые ученики, а сама даже не знаешь, на кого Иринка училась, выучилась и сейчас учит!» Но, ей–богу, Ирина, это только мое неумение представить вас с Леней хоть в чем–то порознь. Вместе всю «сознательную жизнь»: в одной школе, в одном классе, на одной парте, в одном вузе… и, конечно же, на одном факультете…
Кресло уже вовсю в работе: вчера примчалась поздно вечером Ася, «чтобы поглядеть», покачалась, уселась в нем смотреть телевизор, да так и заснула (она частенько у меня ночует). Читаю Зайцева в кресле. Чудо! (и то, и другое, т. е. и Зайцев, и кресло). Но я‑таки хочу его все–таки модернизировать, вернее, ретроировать: уж очень ярко–молодежное для моей убогой кельи. Так я куплю какую–нибудь тусклую попону, а из того хвостика, что удлиняет его спинку, сделаю подушечку для ног в тусклом же чехольчике. Останется только разучить романс старой графини в «Пиковой даме» — и картина будет завершена.
А о Зайцеве я никак не думала, что это такой же «неспешный» писатель, как и Диккенс, и Аксаков — и все мои старые, добрые, любимые. И читать его надобно, конечно же, в кресле!
…Уж два раза сидела на той желтой скамейке, где мы сидели втроем.
Ваша Е. Н.
Теперь уже я не успевала отвечать, Е. Н. писала и мне, и Зое. Зоя хранила ее письма в своей коробке с наклейками, камушками, ракушками — после ремонта все это исчезло.
Дорогие Ирина и Леня!
Боюсь быть назойливой — лезу с «внеочередным» письмом, но еще больше боюсь быть неблагодарной.
Еще раз спасибо за все, что вы оба сделали (и Зоя!) для меня (и для всех нас, Берлиных) в свой приезд. «Еще раз» — потому что я уж писала «спасибы» в письме–ответе Зое. Быть может, оно не дошло: это был период в работе изр. почты, когда она переходила с тарифа рупь шестьдесят на тариф (за письмо в Россию) рупь семьдесят. А у нас было письмо за рупь шестьдесят. Как бы то ни было, хочется еще раз поблагодарить и за визиты, и за Зайцева, которого отдала читать уже в третьи руки, и за кресло, которое исправно функционирует. А главное, хочется поговорить, как тогда — «на желтой скамеечке». Обо всем.