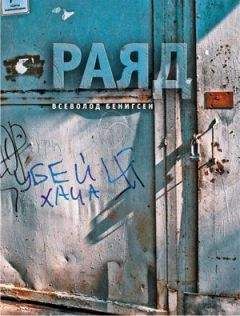«Доживем до приезда комиссии, и сразу после Нового года ноги в руки. Завершу свое культурное миссионерство, так сказать, на высокой ноте», — думал он.
Неожиданно на полпути к дому Мансура его окликнул Сериков.
Антон обернулся и понял, что прошел мимо того, не заметив. Смутившись тем, что увлекся мыслями о переезде, Антон натужно улыбнулся, подошел к Серикову и пожал руку.
— Привет, Серёг. Извини, что не заметил — задумался. Как оно?
Сериков пожал плечами, будто это не он позвал Антона, а Антон отвлек его от чего-то важного. Но тут же испуганно исправился.
— Нормально. А ты куда сейчас?
— Сейчас к Мансуру, потом в библиотеку, а что?
— Можно, я с тобой чуток пройдусь?
Антон взглянул на дом Мансура, до которого оставалось метров двести, и засмеялся:
— А больше чутка и не получится.
— Мне хватит, — без улыбки ответил Сериков.
— Ну пошли, — дернув плечами, сказал Антон и зашагал.
Сериков засеменил рядом.
— Я тебя вот что хотел спросить… Я тут, ну, прочитал… то, что дали… в смысле, ты дал…
Слова Серикову давались с трудом.
— А что тебе дали?
— Да какая разница? — раздраженно сказал Сергей, но спохватился и снизил тон. — Баратынского и Чехова.
— Ну и что?
— Понимаешь, я… ничего не понимаю.
— Слог тяжелый? У Баратынского? Ты спроси, я…
— Да нет, не в этом дело. Баратынский — это так, стихи, — презрительно махнул рукой Сериков. — Я тут у Чехова начал читать, ну, это… рассказы там всякие… «Дуэль» там, «Студент»…
— Ну и что?
— Ну и это… — Сериков неожиданно остановился. — А в чем смысл?
— Смысл чего? — недоуменно застыл вслед за собеседником Пахомов.
— Ну, этой. — Сериков на мгновение опустил глаза, а потом пристально посмотрел на Антона. — Жизни.
Пахомов рассмеялся.
— Ну ты даешь, Серёг! Не ожидал! Откуда ж мне знать?!
— Ты тоже не знаешь? — почти по-детски удивился Сериков.
Пахомов перестал смеяться.
— Да ты что, Серёг, с дуба на кактус? Лучшие умы над этим сотни лет бьются, а я тебе чик-чик и все объясню, что ли? Нет, я могу, конечно, тебе изложить свои соображения, но, боюсь, они не покажутся тебе… убедительными, что ли. А что Чехов-то говорит?
Сериков пожал плечами.
— Да ничего. Иногда, что смысл в… природе там, красоте. Иногда, что надо просто жить. Но я как-то ему не верю.
— Значит, его вопросы тебе кажутся убедительнее его ответов.
— Во-во! Точно, — воодушевился Сериков. — Вопросы трогают… а ответы — нет. А ты знаешь, что у меня сын есть? — неожиданно спросил он Пахомова, заглянув в глаза.
— Да? — удивился Антон. — Не, не знал. А откуда?
— Да так, — вздохнул Сериков. — Случайно как-то вышло. Глупый был, молодой. Давно уже. Тебя еще тогда здесь не было. Встретил одну, ну и закрутилось. А потом мать моя с ней чего-то не поделила, и она уехала. А сейчас узнал, что залетела она от меня тогда. Потом вышла замуж. Сыну уже десять лет. У него другой отец. Приятель мой случайно встретил ее в другом городе, и она ему проболталась.
— Десять лет? Сколько ж тебе было?
— Семнадцать.
— М-да. Ну, в таком возрасте чего не бывает.
— Это точно.
Сериков стоял, опустив голову, и глядел на носок своего сапога, которым бессмысленно водил по снегу.
— Значит, нет ничего, что ли? — снова поднял он глаза на Антона.
— Да почему? Может, и есть. Просто на такие вопросы, Серёг, каждый сам дает ответы.
— А если нет ответов?
Антон шумно втянул в себя морозный воздух и развел руками.
— Тогда наберись терпения. Может, придут. Попозже. Сериков кивнул опущенной головой.
— Понятно. Ну ладно. Погожу. Чуток.
И, развернувшись, поплелся обратно в сторону деревни.
Пахомов посмотрел ему вслед. Сериков шел, опустив плечи, как будто на них лежал невидимый тяжелый мешок.
«Вот черт», — подумал Антон и вдруг почувствовал себя виноватым, словно это он взвалил на Серикова этот мешок, а теперь не желал его снять.
Он достал сигарету и закурил, но вкус ее показался ему горьким, как у первой сигареты после долгой простуды. Он закашлялся и бросил ее в сугроб. Надо было идти дальше.
Мансур, как всякий восточный человек, встретил Антона радушно.
— Привет, салом, Антон, хуб, правильно пришел! Як дам. Один минута. Додар! — крикнул он вглубь дома.
Пока Антон снимал шубу, из дальней комнаты вышла семилетняя дочка Мансура, Додар.
— Додар, — повернулся к Антону Мансур, — значит «брат» на таджикский язык. Хотел мальчика, — виновато развел он руками. — Но это женская имя. Рост? Правда? — обратился он к дочке. Та молча кивнула головой. Мансур почему-то каждый раз заново объяснял это Пахомову, хотя тот уже давно выучил перевод имени девочки.
— Салом, — поздоровался с ней Антон и присел на корточки. Но Додар ближе подходить не стала и смущенно (хотя видела Антона много раз) спряталась за спину отца.
Оттуда донеслось приглушенное «Ассалому алейкум».
— Боится, — снова развел руками Мансур. — Много плохой видела.
— Додар, ты меня стесняешься? — улыбнулся Антон, пытаясь заглянуть за спину Мансура.
Додар, не выходя, ответила:
— Нет.
— А что прячешься?
— Я не прячусь. Я просто стою.
Антон с Мансуром засмеялись, а Додар, смутившись, тут же убежала обратно к себе.
— Если честно, я на минутку, уж извини, — сказал Антон, вставая с корточек. — Просто хотел узнать, есть ли проблемы, все ли понимаешь, ну и прочее.
— Понятно? Албатта не. Нет, конечно. Манн пеш кам мехондам. Я учиться мало в жизни. Но Додар помощь дает, я понимаю. Маленькая, а русский язык лучше, чем я. Так что нормально. Ташаккур. Спасибо.
— Ясно. А я вот, Мансур, уезжаю.
— Куда?
— В Москву.
— Афсус кори хуб нашуд. Жаль, говорю. Но Москва — хороший, большой. Только народ много. И злой все.
— Здесь лучше?
— Здес тихо. А потом… у меня вон, — кивнул Мансур в сторону шкафа, — защита есть.
— Что у тебя там? — спросил Антон.
— Ружье, — хитро улыбнулся Мансур. — Один человек продавать. Я решил покупать. На всякий случай.
— Ну, ружье меняет дело, — улыбнулся в ответ Пахомов. — Значит, останешься пока?
— Ман намедонам. Не знаю. Может. А куда ездить? У меня родственники умер все. Мать Додар, жена моя, тоже. А она сирота была. Получается что? У Додар ни родственники, ни дедушка с бабушка, только я. И у меня только она. Зачем ездить? Додар устала ездить. Надо одно место, чтобы жить.
— Понятно, — сказал Антон и замолчал. Мансур тоже молчал.
Так они сидели в тишине, думая каждый о своем. Неожиданно Мансур подскочил как ужаленный.
— Ай, дурак. Чой, кофе забыл предлагать! Да, нет?
— Нет, нет, Мансур, — остановил панику Антон. — Я, пожалуй, пойду. Мне ж надо библиотеку к сдаче подготовить, порядок навести. Потом начальство уведомить. Туда-сюда.
— А что дом?
— Что с домом буду делать? Пока оставлю. А потом, наверное, продам.
— Майлаш. Ладно.
Антон встал и направился к вешалке.
— У тебя если какие вопросы будут, ты не стесняйся, спрашивай, ладно?
— Майлаш, спасибо.
— Ах, да, — спохватился Антон. — У меня тут шоколадка для Додар, ты ей сам передай. А то она меня стесняется.
Мансур улыбнулся и взял шоколадку. Антон еще какое-то время постоял около двери, переминаясь с ноги на ногу, потом крикнул:
— До свидания, Додар!
Из глубины дома донеслось: «До свидания!»
И Антон, пожав руку Мансуру, вышел.
— Алло, Петро?! На рабочем месте в столь поздний час? Молодца.
Бузунько поморщился от знакомого голоса. Звонил Митрохин.
Во-первых, Бузунько терпеть не мог, когда его называли Петро. Уж лучше, когда просто «Михалыч». Во-вторых, Митрохин имел невыносимую привычку орать, разговаривая по телефону. Независимо от качества связи. Выглядело это так, будто идет война, а Митрохин сидит в окопе на передовой под бомбами и пулями и отчаянно пытается дозвониться в штаб, чтобы вызвать подкрепление. Вполне возможно, что свою службу на благо Отечества Митрохин представлял именно в таком героическом свете. Свистит приближающаяся бомба, раздается взрыв, и он пригибается к земле. Его обдает волна сухой земли, барабаня комьями по гимнастерке. Но он отряхивается, мужественно крутит ручку рации и кричит: «Одуванчик, одуванчик, это василек!» «Интересно, — иногда думал Бузунько, — он и с начальством так орет или только с подчиненными?» Но узнать это, увы, он никак не мог, так как всегда был подчиненным. А при нем Митрохин начальству ни разу не звонил.
— Что у тебя происходит?! — продолжал громыхать героический голос с передовой.
— В каком смысле?
— Я слышал, народ-то твой спивается. В какой-то «экзамен» играет, заливает зенки до усрачки, стихи горланит! Что за херня?!