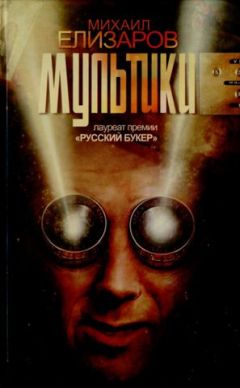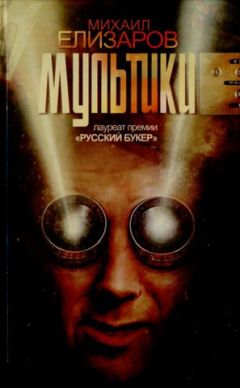Ознакомительная версия.
Но Разумовский и не думал складывать свое хозяйство. Он присел на детский стульчик, колени его сразу оказались чуть ли не на уровне плеч, и в его фигуре проявилось что-то хищно-насекомье.
Он откинул на приборе черный кожух. Лампа и установленное за ней круглое зеркало вместе напоминали танкиста, до пояса высунувшегося из люка. Разумовский нашел в стене розетку и подключил проектор. Щелкнул туда-сюда тумблером, голова танкиста на миг вспыхнула и погасла. Затем Разумовский перевернул алюминиевую коробочку, легко постучал ободком по столу, потянул край пленки пальцем, извлекая наружу целую перфорированную башню. Пленка неожиданно выскочила, завертелась, как освобожденная пружина. Разумовский умело скрутил пленку в рулон, вставил в приемник над кожухом, дважды скрипнул поворотным колесиком — настоящий виртуоз-пулеметчик, заправляющий ленту. Я невольно залюбовался им — каждое действие Разума Аркадьевича было отточено долгим опытом.
Снова щелкнул тумблер, и на противоположной стене, практически по периметру гипсового прямоугольника, возник такой же световой двойник. Так вот для чего был нужен этот голый, без обоев, участок на стене! Он был экраном. Выходит, в детской комнате сеансы с диафильмами случались довольно регулярно, иначе зачем было бы портить стену?
Разум Аркадьевич чуть поправил проектор, чтобы совпали вертикальные грани.
— За что, Герман, люблю эту старую модель, так это за регулятор высоты! — Разумовский расторопно поскрипел очередным колесиком, и на стене выровнялись горизонтальные линии экрана, так что световой контур полностью совпал с гипсовым. — Под твой проектор пришлось бы книжки подкладывать, а здесь видишь как удобно. Отличная штука — с душой сделано и на века… — Он обратил ко мне счастливое и чуть возбужденное лицо: — Гаси свет!
Я почему-то снова вспомнил абсолютный безвоздушный мрак Комнаты, так потрясший меня. Нет, я понимал, что сейчас никакой темноты не будет — полстены вполне сносно освещал проектор, но все же я фактически заставил себя подойти к выключателю и потом еще несколько секунд набирался решимости. Я думал — а что будет, если в проекторе перегорит лампочка? Тогда я окажусь с Разумовским в полной темноте. Я не боялся его. Вообще, сама мысль о том, что этот немолодой чудик с щуплой как у подростка шеей может представлять какую-то физическую угрозу, казалась мне смешной. Я был на сто процентов уверен в своем физическом превосходстве — я, Герман Железные Кулаки, Герман, подтягивающийся на турнике полсотни раз, Герман Рэмбо!..
И все-таки мне становилось не по себе от мысли, что где-то рядом со мной во мраке будет липко бормотать и шевелиться странное, не от мира сего существо — Разум Аркадьевич. Я заново ощутил частое сердцебиение, не унимавшееся, оказывается, с того самого момента, когда появился Разумовский.
— Ну, давай же, Герман, — торопил Разум Аркадьевич. — Ты что, темноты боишься?
Я набрал полные легкие воздуха, точно готовился нырять, и надавил на выключатель.
Ничего особенного не произошло, лишь белой лунной яркостью высветился гипсовый экран.
— Садись, Герман, — пригласил Разумовский. — Начинаем!
Я вернулся к столу, прошел мимо проектора, так что по экрану пролетела моя похожая на мумию тень, и уселся слева от Разумовского. Детский стульчик с низкой посадкой словно уменьшил меня вдвое. Я почувствовал себя каким-то пятилетним ребенком рядом с Разумовским — так он разительно возвышался надо мной, и этому неуютному эффекту дополнительно способствовала его необычайно долговязая тень на стене — проектор тускло лучился сквозь вентиляционные прорези в кожухе и двоил Разумовского.
Стульчик мне попался неудачный. То ли одна из задних ножек была короче, то ли просто сказывалась неровность пола, но устойчивым стульчик был только на трех ногах, и в том случае, если я наклонялся вперед. Стоило чуть откинуться назад, как терялось равновесие, создавая отвратительное ощущение, что я сейчас опрокинусь на спину, а короткая ножка со стуком упиралась в пол. Сидеть на таком стульчике было неудобно, я просто чуть нагнулся, чтобы его не раскачивать.
Закрутилось колесико, на стене появилась настроечная таблица — коричневые, охровые, розовые квадраты в легком расфокусе. Разумовский покрутил объектив, подтягивая резкость. Затем вытянул руку перед линзой, и на экране возник крокодил. Он чуть пощелкал пастью — указательный и средний пальцы, потом перевоплотился в собаку и загавкал. Я ошеломленно покосился на Разумовского. По Разуму Аркадьевичу явно рыдала психушка.
Выползла вторая таблица, похожая на металлическую дверцу с кодовым замком в вокзальной камере хранения.
— Механика на мыло! — пискнул не своим голосом Разумовский и вслед разразился подростковым баском: — Кино давай!
Я догадался — таким образом он изображал нетерпеливый зрительный зал. Появилась надпись — «Диафильм». Буква «Ф» была в виде подбоченившейся птицы с радужными крыльями-дужками. Разумовский принялся гудеть какой-то мотив, в первых тактах напоминающий трагическую песнь про «Орленка», а потом оптимистично сползающий на «Если с другом вышел в путь». Верхнюю часть следующего кадра занимала полуарка размашистых заглавных букв: «К новой жизни!», которые в тот же миг с выражением озвучил сам Разумовский, затем прибавил короткое слово: «Быль!» — звонкое, как упавшая посуда, и снова замычал «Орленка, вышедшего в путь». Тут я наконец-то понял, что Разумовский не просто так напевает, а создает музыкальное сопровождение к истории, назидательная суть которой в принципе угадывалась по заглавной картинке.
На песчаном обрыве взрослый мужчина в армейской форме опирался на плечо хрупкого белокурого подростка, одетого в шорты и белую рубашку с алыми языками пионерского галстука. Немым жестом: «Гляди!» — мужчина указывал на промышленную городскую панораму: под обрывом виднелись река и железнодорожный мост с летящим составом. В двух шагах от пары возвышался обелиск с красной звездой на макушке. Рисунок был выполнен в манере советской послевоенной анимации — яркие выпуклые краски, совсем не хуже диснеевских. Под кадром мелким шрифтом сообщалось: «Художник Борис Геркель, 1951 год».
В груди Разума Аркадьевича задрожала тревожная монотонная нота. На экране возникла
ночная улица — пустынные тротуары в легкой синей дымке, звездные бенгальские искры над покатыми крышами. Мальчик прильнул к стволу дерева, с тревогой оглядывается на угол дома. Проезжающей машины еще не видно, только два рассеянных желтых луча на асфальте, их отблески в черной листве. По напряженной фигуре мальчика видно, что до того он бежал. Светлая рубашка пузырем — выбилась из штанов. Заслышав машину, спрятался. К груди прижат тряпичный узел размером с футбольный мяч.
Под картинкой находился текст — сопроводительный абзац, как во всех диафильмах. Из пяти обычных вопросительных предложений Разумовский разыграл театральную феерию.
— Кто это спрятался за раскидистым каштаном?! — с утрированными драматическими интонациями вскричал Разумовский. При этом он умудрился не прервать фоновый грудной гул. Тембр его словно прищурился, силясь разглядеть детскую фигурку. — Неужели Алеша?! — Он всплеснул голосом, точно руками. — Что делает ребенок ночью на улице? Отчего не спит, как все обычные дети?! Куда он спешит, почему прячется?
Второй кадр крупным планом показал лицо мальчика. Я всмотрелся в эти приближенные черты. На картинке явно был изображен Разум Аркадьевич, только в детстве. Художник Борис Геркель отлично передал портретное сходство — те же ужимки, прищур глаз, лицевая костная щуплость. На лице Алеши застыли партизанские тревога и ненависть, словно он готовился увидеть за поворотом фашистов на мотоциклах.
— Разум Аркадьевич, — не выдержал я, — а ведь это вы там нарисованы!
Разумовский раздраженно дернул плечом, шикнул, как гусь:
— Мож-ш-но потиш-ш-е, ребята, вы меш-ш-аете! — давая понять, что мои замечания неуместны и отвлекают его, и продолжил полным голосом: — Что это у него в руке?! Узелок?! Похоже, мальчишка удрал из дома. Мать с отчимом, что ли, допекли? Наверняка случилось что-то серьезное, раз Алеша решился на такой отчаянный шаг, как побег!
Конечно, все эти завывания «с выражением» были дико комичны. За Разумовского делалось стыдно. Как может взрослый человек, хотя бы и претендуя на актерскую работу, так себя вести?! От неприличного хохота меня удерживал лишь тот факт, что я единственный зритель, а подобного толка веселье все-таки нуждалось в компании. Мне оставалось потешаться про себя, глядя на это бесноватое представление.
Выполз третий кадр: мальчик под деревом сжался в комок, по дороге катила черная, скользкая, как рептилия, «Победа».
— Полыхнуло фарами. Алеша теснее приник к дереву, даже дышать перестал, мозг сверлила единственная мысль: «Только бы не заметили!» — Разумовский выдержал тревожную паузу, потом с облегчением выдохнул: — Обошлось! Скрылся автомобиль, вот и мотор уже не слышен. Алеша зорко оглядел темноту и побежал дальше. Куда он так спешит, неужели к брошенному стекольному заводу?
Ознакомительная версия.