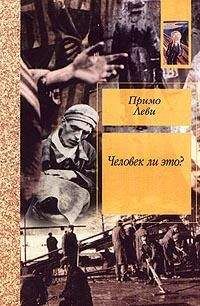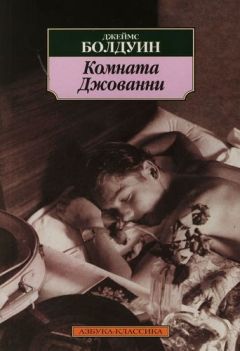Остатки и без того слабой военной дисциплины окончательно улетучились. Охранник лагерных ворот к вечеру первого мая уже валялся на земле и пьяно храпел рядом со своим автоматом. Потом он пропал, и больше мы его на посту не видели. Обращаться в эти дни в комендатуру по какому-нибудь неотложному делу было бессмысленно: все равно никого нельзя было найти, а если нужный человек и находился, то либо лежал в лежку пьяный, либо занимался какими-то таинственными и лихорадочными приготовлениями в спортивном школьном зале. Счастье еще, что кухня и санчасть находились в ведении итальянцев.
Характер таинственных приготовлений прояснился довольно скоро: в день окончания войны должно было состояться грандиозное театральное представление с песнями, танцами и декламацией, на которое русские пригласили и нас, итальянцев. Почему только итальянцев? Да потому, что в Богучицах к недавнему времени остались в основном итальянцы. Если не считать нескольких французов и греков, все остальные после сложных перемещений разместились национальными группами по другим лагерям.
В один из этих сумасшедших дней Чезаре неожиданно вернулся. Вид у него был совсем плачевный, не то что в первый раз: с головы до ног в грязи, оборванный, испуганный, шея не ворочается. В руке он сжимал непочатую бутылку водки. Первым делом он отыскал пустую бутылку. Затем, с мрачным, почти похоронным видом ловко свернул конусом кусок картона, перелил водку через эту самодельную воронку, разбил опорожненную бутылку на мелкие кусочки, сложил осколки в воронку и, соблюдая предосторожность, закопал все это в самом дальнем углу лагеря. Потом рассказал, что произошло.
Ему не повезло. Когда он вечером вернулся с рынка в дом своей девушки, то обнаружил там русского: в прихожей лежали шинель, портупея, кобура и бутылка водки. Чезаре счел за лучшее удалиться, а в качестве компенсации прихватил бутылку. Но русский, то ли из-за бутылки, то ли из-за ревности, побежал следом за ним.
Чем дальше, тем рассказ Чезаре становился все путанее и неправдоподобнее. Будто бы он пытался убежать от преследователя, но вскоре за ним по пятам уже гналась вся Красная армия. Он надеялся спрятаться в Луна-парке, но и там охота за ним продолжалась всю ночь. Последние часы он пролежал под помостом танцплощадки, и теперь уже вся Польша плясала у него на голове. Но бутылку он сохранил, потому что это было единственное, что осталось ему от его короткой любви. Уничтожив из осторожности сам сосуд, он настоял, чтобы его содержимое разделили с ним самые близкие товарищи. И мы выпили с ним, молча и скорбно.
Наступило восьмое мая — день ликования для русских, настороженного ожидания для поляков и радости, омраченной тоской по дому, для нас. С этого дня нам уже не был закрыт путь на родину, с этого дня нас уже не отделяла от наших домов линия фронта, и ничто, казалось, больше не мешало нам вернуться. Ничто, кроме бумажной волокиты и бюрократических формальностей. Мы с нетерпением ждали отъезда, и каждый час этого ожидания был нестерпимо тяжел, тем более что у нас не было никакой связи с нашими близкими. Несмотря на тоскливое настроение, мы все отправились на представление русских и не пожалели об этом.
Представление, как я уже говорил, давалось в школьном спортивном зале. Это была самодеятельность от начала до конца: русские сами играли и пели, сами придумали программу, сами расставили стулья, повесили занавес, установили освещение. Явно и фрак сами сшили для ведущего, которым был не кто иной, как капитан Егоров собственной персоной.
Егоров появился на сцене вдрызг пьяный, утопая во фрачной паре: огромные штаны доходили ему до подмышек, а фалдами он подметал пол. Погруженный в безутешную алкогольную тоску, он, беспрерывно икая и рыгая, с одной и той же замогильной интонацией объявлял и комические, и торжественно-патриотические номера программы. С трудом держась на ногах, он в ответственный момент хватался за микрофон, и тогда зал на мгновенье замирал, как в цирке, когда гимнаст перелетает над пустотой с одной трапеции на другую.
В концерте принимала участия вся комендатура. Марья дирижировала хором, который, как все русские хоры, звучал на удивление слаженно, стройно. С большим чувством он исполнил песню «Москва моя». У Галины был сольный номер: в сапогах и черкеске она станцевала головокружительный танец, неожиданно проявив фантастические способности к акробатике. Ее приветствовали громом аплодисментов, и она, растроганная, раскрасневшаяся, со слезами на глазах, много раз склонялась перед публикой в старомодном поклоне. Не менее тепло принимали доктора Данченко и усатого монгола, которые вдвоем сплясали в бешеном темпе русский танец, хотя и были изрядно накачаны водкой. Они подпрыгивали, приседали, выбрасывая поочередно то одну, то другую ногу, крутились волчком, стучали каблуками.
За ними на сцену вышла пышущая здоровьем девица с большущей грудью и объемистым задом, наряженная под Чарли Чаплина. Копируя его во всем (усики, котелок, башмаки, тросточка, жесты), она исполнила знаменитую песенку.
Плаксивым голосом Егоров объявил последний номер программы, и на сцене, приветствуемый дружными восторженными криками русских, появился Ванька-встанька. Кто такой этот Ванька-встанька, я точно не знаю, возможно, какой-то известный народный персонаж. В данной интерпретации это был наивный застенчивый пастушок, который хотел объясниться в любви своей красавице и никак не решался. Красавицей была гигантша Василиса, крепкая черноволосая подавальщица из столовой, способная одной затрещиной свалить с ног разбушевавшегося посетителя или нахального ухажера (не один итальянец испробовал на себе тяжелую руку этой русской валькирии). Но на сцене ее было просто не узнать. Кто бы мог подумать, что она способна к такому перевоплощению? Смущенный Ванька-встанька (один из старших лейтенантов комендатуры) с белым напудренным лицом и нарумяненными щеками начал свое объяснение в любви издалека, как в аркадской идиллии: он нараспев читал непонятные нам, к сожалению, стихи и умоляюще протягивал к возлюбленной дрожащие руки. Возлюбленная, однако, отстранялась от него с комической грацией и воркующим голоском выражала свой протест. Но постепенно, по мере того как нарастал звук подбадривающих хлопков, жеманное сопротивление пастушки ослабевало, расстояние между возлюбленными сокращалось, и они наконец расцеловались. В заключительной сцене пастух с пастушкой, прислонившись друг к другу спинами, нежно раскачивались в разные стороны под восторженные возгласы зрителей.
Из театра мы вышли слегка оглушенные, но растроганные: концерт взволновал нас до глубины души. Видно было, что его готовили всего несколько дней, но при всей детской наивности и пуританской чистоте в нем была основательность, говорившая о сильных и глубоких традициях, помноженных на веселый молодой задор, на природную живость, на доброжелательно-дружеский контакт со зрителями, благодаря которому артисты чувствовали себя на сцене как дома. Ни холодной напыщенности, ни слепого подражания образцам, ни вульгарности в этом спектакле не было, зато были и живое тепло, и свобода, и чувство уверенности.
На следующий день все пришло в норму и русские вновь обрели привычный облик, только темные круги под глазами напоминали о праздничной неделе. Когда я встретился в санчасти с Марьей, то сказал ей, что мне очень понравилось представление и что все итальянцы тоже в восторге от нее и от ее товарищей (что являлось чистой правдой). Марья, не столько прагматичная, сколько педантичная по своей природе, жила по раз и навсегда заведенному порядку, любила людей из плоти и крови и пренебрежительно относилась к туманным теориям. Но даже людям с подобным складом мышления нелегко противостоять непрерывному натиску мощной, хотя и замаскированной пропаганды.
Поблагодарив меня официальным тоном и заверив, что передаст мои комплименты всем участникам концерта, Марья с учительской назидательностью и даже надменностью сообщила, что в Советском Союзе танец и пение, а также декламация — обязательные школьные предметы, что каждый настоящий гражданин обязан развивать заложенные в нем природой таланты, что театр — один самых великолепных инструментов коллективного воспитания, и так далее, и тому подобное. У меня перед глазами еще стояли живые и веселые сцены вчерашнего концерта, поэтому педагогические банальности, излагаемые Марьей, вызвали у меня раздражение.
Тем более что у самой Марьи («сумасшедшей старухи», по словам восемнадцатилетней Галины) было и второе лицо, совсем непохожее на официальное: по рассказам очевидцев, после концерта она до глубокой ночи пила, как прорва, и плясала, как вакханка, доводя до изнеможения одного партнера за другим, словно бешеный всадник, загоняющий лошадь за лошадью.