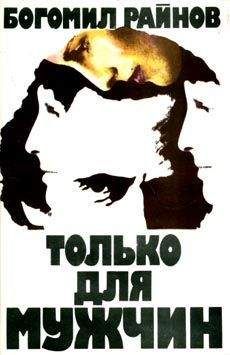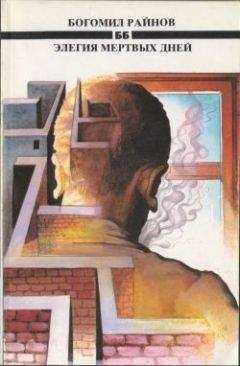Гость смотрел на меня и слегка улыбался, но я уперся, не желая к нему идти, так что улыбка на его худом лице постепенно угасла и больше не появилась – даже когда маме все-таки удалось подтащить меня к креслу-качалке.
Мне не повезло с отцом с самого начала: то ли я вообще был стеснительным, то ли он казался мне совершенно чужим, ничуть не похожим на того, что мне показывали на фотографии – красивый мужчина держит под руку красивую улыбающуюся девушку, мою мать.
Моя мать с ее полным лицом и тяжелым телом тоже была непохожа на подретушированный образ, увиденный на фотографии, но к ней я привык. А этот неожиданно появившийся человек был совсем чужой, и мне было непонятно, почему я должен его любить, такого молчаливого, холодного, нахмуренного, – казалось, он страдает от зубной боли, не очень сильной, но не унимающейся.
В ранние годы мною занимались мать и тетка. Мать была доброй феей, а тетка – злой. К сожалению, заботы матери были сосредоточены не столько на мне, сколько на кухонных кастрюлях. Может быть, она внушила себе, что единственное ее дарование – кулинарное искусство, и ей хотелось убедить в этом отца и тетку. Свою возню на кухне мама начинала, как только прислуга возвращалась с базара; охая и вздыхая, бралась она за кастрюли и сковороды, но, поскольку кулинарные таланты были чистейшей ее иллюзией, ей приходилось маскировать их отсутствие, и она чересчур щедро сдабривала кушанья всевозможными приправами, главным образом пряностями и лавровым листом. Их одуряющий запах так действовал, что можно было съесть целую порцию, не подозревая, какую ты поглощаешь бурду.
Толстая добрая фея была слаба здоровьем – она страдала от нарушения обмена веществ (или, как она сама деликатно выражалась, «от нервного сердца»), вечно глотала всевозможные таблетки, сосредоточенно отсчитывала валерьяновые капли, а после тяжелой операции утренней стряпни и не менее утомительной процедуры поглощения ее укладывалась на кушетку в гостиной, не способная больше ни на какую другую работу до следующего утра.
И все же она оставалась доброй феей, потому что вопреки строгому запрету отца иногда совала мне какую-то мелочь, а если я был чем-то обижен или огорчен, я все еще находил убежище в ее мягких объятиях.
Моя тетушка тоже была женщина одаренная. У нее были хорошие данные истерички (врожденные или приобретенные – не имеет значения), но по крайней мере она это сознавала и изо всех сил старалась держаться на грани спокойствия, потому как стоило ей потерять равновесие, и она запросто могла сорваться в бездну; однажды в подобных обстоятельствах тетка перебила весь семейный сервиз китайского фарфора, того старинного китайского фарфора, который производится в Вене и стоит баснословных денег.
В пору моего безмятежного детства, сам того не понимая, я был для моей тетушки главным источником раздражения, поскольку в основном именно ей приходилось мной заниматься. Она без конца досаждала мне своими командами: «Ногти постриги», «Смени носки», «Садись заниматься»; если же я вел себя хорошо, она вознаграждала меня не менее «приятными» ласками: крепко прижимала меня к себе, гладила своей тощей нервной рукой, от которой противно пахло валерьянкой. Таким образом, трудно было решить, как мне выгодней – вести себя хорошо или вести себя плохо. Одно я твердо усвоил: нельзя безобразничать сверх меры, чтобы не вывести тетушку из терпения, потому что, когда такое случалось, она приближалась ко мне с тем напряженным выражением, которое появляется у каждого из нас, когда мы повторяем про себя: «Спокойно, спокойно…» Впрочем, она повторяла это не про себя, а вслух, обращаясь, конечно же, к матери: «Спокойно, Веса, не надо расстраиваться», хотя мать, пребывая в обычном своем летаргическом состоянии, и не думала расстраиваться. «Не надо расстраиваться. Веса», – повторяла тетушка, привлекая меня к себе, чтобы оградить от материнского гнева, и улыбаясь мне, хотя это больше походило на оскал, нежели на улыбку. «Зачем расстраиваться?» – убеждала тетушка, и в это мгновение как бы невзначай щипала меня (ей было решительно все равно, куда), и щипала так зверски, что у меня темнело в глазах. Я издавал истошный крик и, отбиваясь кулаками, вырывался из ее объятий, рискуя оставить клок своего тела в этих безжалостных костлявых пальцах, похожих на клещи.
Впрочем, на людях тетушка твердо отстаивала мнение, что детей не следует наказывать, ибо проказы их – пустяки, из-за которых не стоит расстраиваться; в ответ я, при всей своей наивности, возражал плачущим голосом: «А зачем же ты меня щиплешь?», не подозревая, конечно, о том, что с ее стороны это были вовсе не щипки, а отчаянные попытки ухватиться за что-нибудь, лишь бы не рухнуть в разверзающуюся перед ней бездну истерии.
Было бы уместно спросить, почему домашние тяготы в нашей семье были распределены так, а не иначе – то есть почему бы тетушке не заниматься кастрюлями, а матери – мною. Но это был бы риторический вопрос, потому что мать нуждалась именно в кастрюлях, а тетушка нуждалась именно во мне. Эта старая дева видела во мне единственное средство для самоутверждения – как-никак она распоряжалась мужчиной, пусть малолетним, командовала им как хотела, тиранила его и таким образом доказывала и себе самой, и всему свету, что ее женский инстинкт, так же как и материнский, не пропал втуне.
Несколько позже на педагогическую вахту встал отец. Не потому, что ему некуда было девать время, – его, вероятно, раздражало то, что тетушка, по его словам, начиняла мне голову всевозможными глупостями, в том числе религиозными. Вмешательство отца пошло мне на пользу, поскольку до некоторой степени ограждало меня от тетушкиных истерик, но и во вред, потому что именно с этой поры я начал ощущать порядок со всей его неумолимостью. Порядок, установленный отцом, должен был стать законом и для меня, обретенные им привычки должны были стать и моими привычками, идеи, принципы – все мне давалось в готовом виде, чтобы я не ломал над ними голову или не свернул, упаси бог, с прямого пути.
Помнится, как однажды после классного сочинения по литературе я осмелился сказать учителю:
– Вы мне поставили тройку…
– А ты чего ожидал? – Он смерил меня недовольным взглядом. – Я тут в лепешку расшибаюсь, доказывая, что надо, а ты пишешь, что тебе заблагорассудится.
– Я пытаюсь думать самостоятельно…
– Не похоже.
– Дать свою оценку…
– Если на алгебре ты ответишь не по учебнику, что тебе поставят? Решений может быть сколько угодно, но правильно – только одно.
– Да это ведь литература, не алгебра!
– Ну и что? Неужто литература – сплошной произвол?
Дома, за обедом, я рассказал о случившемся.
– Вечно ты делаешь все наоборот, Тони, – добродушно заметила мама.
Отец молчал, и можно было бы предположить, что он едва ли согласен с учителем. Но он сухо заметил:
– Пока ты в школе, придется делать, как тебе велят. Вот закончишь учение – тогда поступай по своему усмотрению.
Было видно, что отец не согласен с учителем, хотя сам без конца пичкал меня готовыми решениями – все равно что заставлял донашивать свою старую одежду. Удобно, конечно, но порой от этого «удобства» я готов был кричать благим матом. Как это бывает с детьми, которые начинают ненавидеть еду, если их пичкают насильно.
Я ловил себя на том, что чем настойчивее вдалбливают что-то мне в голову, тем сильнее мое желание сделать все наоборот. И не потому, что это «наоборот» мне больше нравится, а просто потому, что «наоборот». «Вечно у тебя все шиворот-навыворот», – говорила мама.
Так получилось и с чтением. После обеда отец взял обыкновение запирать меня в комнатенке, которую мама величала «папиным кабинетом». Запирал, чтобы тетушка не могла решать за меня задачи – и вообще чтобы приучить меня наконец к самостоятельности. Я адски скучал, с нетерпением ожидая его ухода в редакцию, а поскольку ждать иногда приходилось долго, брал с полки первую попавшуюся книгу и читал, лишь бы убить время. В результате я не приучился самостоятельно готовить уроки, зато пристрастился к чтению.
Не любил я учиться, ничего не любил делать, когда меня заставляли только потому, что все так делали, что так было принято делать. Мне нравилось бездельничать, но не по воскресеньям, когда это в порядке вещей, а именно в будни. К сожалению, будни начинались с принуждения – звенел будильник – и кончались принуждением: «А ну-ка в постель!»
Это искушение – делать все наоборот – иной раз до такой степени овладевало мною, что я спрашивал себя, в своем ли я уме. Случалось, в классе, на уроке, я слушал учителя, как и всегда, но вдруг меня охватывало желание встать, неторопливо подойти к учителю и потянуть его за ухо, совсем легонько, просто так. Подчас это совершенно дикое желание мучило меня с такой силой, что казалось, вот-вот я совершу эту глупость.
И совершил однажды, только не эту, другую. В канун праздника Кирилла и Мефодия мы готовились к демонстрации, маршируя по городским улицам. Наш учитель физкультуры выкрикивал громкие команды, рисовался перед уличными зеваками как только мог, вообразив, вероятно, что все от него в неописуемом восторге. И вот во время маршировки я вдруг почувствовал тот самый зуд делать все наоборот, а так как все целеустремленно вышагивали вдоль улицы, «наоборот» представилось мне в виде возможности сесть на мостовую, и пускай остальные маршируют вокруг меня. Самое скверное, что так я и сделал. Только мы вышли на Русский бульвар, у меня подкосились ноги, и я плюхнулся на желтую брусчатку – идущие сзади чуть не попадали на меня. (Кажется, я упал здесь, на бульваре, потому что брусчатка чище асфальта.)