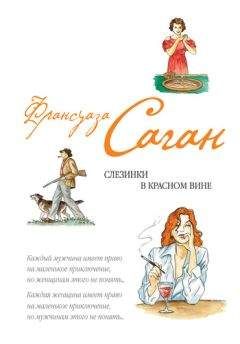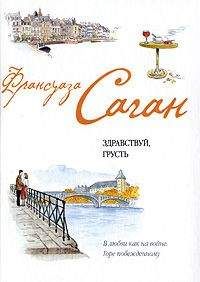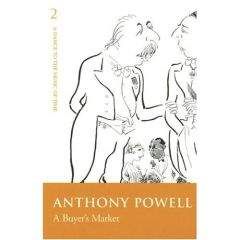– Что пьете? – спросила она, поднимая на него глаза.
– Собираюсь себе налить, а ты что хочешь?
Едва бросив ей, как вызов, это «ты», он почувствовал себя смешным и покраснел. О нет! Лучше уж воспользоваться этим «вы» и этим фасадом, чтобы отступить – элегантно, холодно и так смехотворно! Ибо как приемлемо покинуть ту, в чье тепло зарывался два года? Лучше отступить, это по крайней мере удобно. Она не отреагировала и не ответила. Он твердой рукой налил себе выпить, поставил ставший чужим шейкер на незнакомую полку и направился к креслу, с виду в стиле Людовика XVI. Он чувствовал себя заблудившимся в этом доме, в этой вселенной, где знал и нежно любил каждый уголок, так что почти с облегчением увидел на маленьком экране знакомое лицемерное лицо некоего политического деятеля. Он взглянул на него даже с некоторой симпатией, если не с раскаянием. «До чего же, старина, – мысленно сказал он ему, – я считал тебя смешным, самодовольным, претенциозным и бесчестным! До чего же ты казался мне лишенным ума и сердца и до пошлости трусливым за своим чванством! Ну так видишь ли, мне бы надо было заодно восхищаться тобой… Ведь ты похож на нее». Он вытянул ноги и положил руки на подлокотники. Отдыхал. Через несколько часов его тело – тело усталого, сомлевшего, но по-прежнему невредимого маленького мальчика – вытянется в одиночестве меж двух свежих и беззастенчивых простыней, после разрыва, конечно, после разрушения того, чего никогда не было.
– Нелепо, да? – сказала она. – Они все говорят одно и то же.
Он кивнул. Опять с ней соглашался. Он всегда с ней соглашался. Она говорила так безразлично или так насмешливо, что ей не осмеливались противоречить, настолько она сама казалась готовой уступить. Хотя на самом деле и не собиралась. Цеплялась за свои маленькие мнения, за свой личный опыт, за свой набор жизненных правил, извлеченных больше из ресторанного справочника «Го и Мийо», чем из Библии. И ее усталый, немного тягучий и такой убедительный голос прикрывал испуганную и оттого безжалостную женщину. Да, она боялась: боялась нехватки денег, хотя была богата, боялась постареть, хотя была молода, боялась, что ее разоблачат, хотя за этой аурой элегантности и непринужденности, которую она выставляла повсюду, не было ничего. Ничего за всем этим, никакого ужасного воспоминания. Разве что мужчина, отбитый у близкой подруги, или плохо рассчитанная скупость, или один-два человека, раненные в душу… В худшем случае, оргии в Трокадеро или жульничество в джин-рамми[5].
И когда он покинет ее, вслед за первоначальным гневом или чувством уязвленного тщеславия она испытает именно страх, пока не заменит его кем-нибудь другим. Страх быть одной, словно она и так не одна, причем навсегда, словно ей не предстоит умереть в неотвратимом одиночестве и в страхе, как и жила, словно ее первый крик по приходе в мир был чем-то иным, нежели яростным и горьким криком новорожденной эгоистки… Она из тех женщин, которых не удается представить себе ребенком. Он вдруг осознал, вспомнил, что все ее рассказы о своем детстве, в которых ей хотелось воскресить сады, лужайки, благовоспитанных дядюшек и теннисные ракетки, – все это дивное и безмятежное прошлое всегда вызывало у него впечатление череды пронзительных, нестройных звуков. Словно она пыталась превратить мрачное дело скуки, спеси и онанизма в благочестивую картинку. Она из тех людей, чье детство кажется смутным, а старость непристойной, даже если ничего об этом не знаешь. И он вспомнил даже, как удивился, когда она заговорила с ним о своем первом любовнике. Он приписал это удивление хрупкости своей любовницы, ее невинному и целомудренному виду. Не понял, что для него она, несмотря на все ее ночные излишества, непонятно как, в каком-то таинственном закутке своего существа осталась девственной или же не была ею никогда.
– Какие у вас планы на сегодняшний вечер? – спросила она.
Ему вдруг захотелось ответить кратко: «Бросить вас», только чтобы увидеть, как изменится безмятежное, улыбающееся и уже одобрительное выражение этого красивого лица. И в самом деле, если бы он предложил ей пойти в театр, на пляж или заняться любовью, она бы неизбежно согласилась. Даже поаплодировала бы слегка его изобретательности и дала понять, что его пожелание, каким бы нелепым оно ни было, это как раз то самое, о чем она сама весь день твердила. Даже убедила бы его потом, что эта пьеса, море или смятые простыни – ее заслуга и что он всего лишь следовал за ней; а также что он весь вечер был забавным, словоохотливым и выносливым; а еще, поучаствовав в общем смехе, сказала бы ему снисходительно: «Ты ведь неплохо развлекся?» Так она давала понять, что этот веселый вечер был подарком, который она ему преподнесла. Ведь сама-то она забавной не была: она лишь смеялась над тем, кто забавен, аплодировала тому, кто умен, и кричала, когда с ней хорошо занимались любовью. Но сама по себе она не внушала ни желания смеяться, ни желания размышлять, а если и дарила наслаждение, то лишь потому, что физическое устройство человеческих тел делало его неизбежным. Вдруг он показался себе одним из тех толстых, неуклюжих ящеров, которые влачатся в экзотических болотах, неся на своих подслеповатых мордах какую-нибудь крикливую, ярко окрашенную и зловеще прожорливую птицу, питающуюся исключительно объедками своего носителя и прилипшей к нему грязью. Ей не составит никакого труда подыскать себе другого крокодила или гиппопотама и взгромоздиться на него. Ее оперение достаточно красиво, а голос достаточно пронзителен, чтобы никакое животное не испугалось ее беспрестанных и жадных клевков.
– Сегодня никуда не хочется выходить, – сказал он и достал пачку сигарет из кармана.
Она улыбнулась и проворным жестом бросила ему маленькую, роскошную и слишком плоскую зажигалку, которую он недавно ей подарил. Он поймал ее на лету, не удивившись, что вещица так холодна, словно не ютилась перед тем в человеческой ладони. Словно золото и серебро уже не выполняли свою роль хорошего проводника тепла или желания, соприкасаясь с этой изящной, ледяной, лишенной крови рукой. Это были ее зажигалка, ее диван, ее дом, ее вещи и ее тело. И хотя он заплатил за все это, ничуть не сделавшись владельцем, его это не волновало. Поскольку как раз все то, что было ему дорого, теперь его оскорбляло.
Теперь на экране целовались мужчина и женщина. Они были красивы, как и положено актерам, и рука женщины, стиснувшая затылок мужчины, казалась ошалевшей от нежности, от признательности, от чего-то безумного, ужасно драгоценного, чего ему вдруг стало не хватать – до головокружения, до горя. Какой-то комок застрял у него в горле, защемил яремную вену, мешая крови заполнить сердце, не давая ему биться. Он был один, он был беден, ему было холодно, страшно и голодно, у него не было возраста, имени, будущего и друзей. Он был наг и дрожал от нежности, потому что стереотипная актриса целовала на маленьком экране бесцветного молодого героя. Стоило ему сказать пару слов, и сидящая здесь женщина разделась бы догола, гладила бы руками его тело, ощупывала, провоцировала, говорила бы ему ужасные, лживые слова, говорила бы «люблю тебя» и кусала в шею. А потом он оказался бы еще более одинок, и дрожь превратилась бы в просто сдерживаемый стук зубов. Он посмотрел на нее. Ее глаза были прикованы к этой влюбленной паре на экране, а на губах появилась улыбка, слегка окрашенная презрением, улыбка, которая означала, что все это досадно, но такая уж она, любовь.
«Тогда, – подумал он с внезапным ужасом, – но тогда, если она испытывает такое презрение к любви, почему упрямо хочет ею заниматься и говорить о ней? По какому праву заимствует слова, жесты, даже эту душераздирающую маску?» Ему хотелось ударить ее, как бьют обманщика, подсунувшего фальшивку. До него она никогда не любила; она сама сказала ему это, и он тогда возгордился, как дурак. Из-за какого же тупого и преступного самодовольства смог он в тот момент скрыть от себя неизбежное следствие этого признания? Ведь если она никогда не любила до него, значит, никогда не полюбит и после, да и его самого не любила все это время? Он познакомился с ней, когда она была любовницей другого, и насладился удивительной легкостью, с какой она бросила того другого, чтобы уйти к нему. Он приписал любви эту проявленную ею тогда бесстрашную жестокость, приписал своему собственному обаянию эту стремительность и назвал порывом то, что было лишь отступничеством. Отступница! Вот кто она такая! Отступница, оставляющая после себя пустоту, идущая от пустыни к пустыне, все вокруг себя – ресницы, лица, напольные ковры, саму зарю – делая сухим, холодным и бесцветным. Тот мужчина позже убил себя, врезался на машине в дерево, и он вспомнил, с какой осторожностью сообщил ей эту новость, исходя из туманного, идиотского, но важного для него принципа, что невозможно прикасаться своей кожей к коже другого, овевать его губы своим дыханием, исторгать у него слезы наслаждения или печали, не оставив на нем, пусть и оставшись сам целым и невредимым, частицу собственной кожи, дыхания, взгляда. Впрочем, услышав новость, она и бровью не повела, лишь слегка пожала плечами и отвернулась – из сдержанности, как он подумал. Даже сказала что-то про невезение. Так он и обнаружил, что для нее этому брошенному ею мужчине, который вскоре разбился на машине, просто не повезло. Она была ни при чем в этой столь короткой жизни, ни при чем в этой любовной истории, в этой смертельной аварии, и он вдруг содрогнулся, словно это вовсе не было аварией, словно он пообещал самому себе, как только покинет ее, скорую смерть.