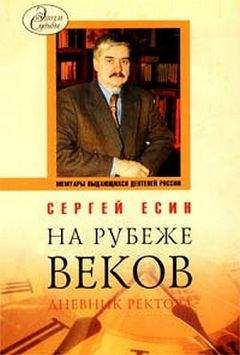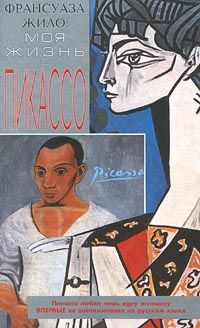Я приехал в деревню через месяц после своей первой персональной выставки и разминулся с телеграммой, потому что ехал поездом. Мать уже похоронили. Она была последней, кого похоронили на нашем деревенском кладбище. И наша изба была в бывшей деревне последней, еще уцелевшей с тех пор, как всех, за год до того, переселили на центральную усадьбу и бульдозер порушил стены домов и построек. Изба, колодец, пустой сарай для коровы, а вокруг, прямо к избе, к колодцу, небольшому огороду подступало поле овса. Было жутко от того, что наш проселок вел только к одной избе: мать вместе со всеми не поехала. Она написала мне, когда пошли разговоры о переселении, и я ответил, чтобы тянула, никуда не двигалась, покуда не приеду. Она стерегла хозяйство и все мои этюды, наброски, которые я каждое лето, не имея еще квартиры в Москве, свозил к ней. Я ей написал: «Ничего не трогай. Я все разберу сам. Когда-нибудь это будет стоить большие тысячи». По моей просьбе – тогда это было еще немодным – мать несколько лет собирала иконы из покидаемых домов, старые расшитые полотенца, прялки, утварь, ходила даже к умирающим бабкам в дальние деревеньки. Я ей наказывал брать все – и, с ее точки зрения, плохие, и хорошие. Потом я сам рассортирую. И с таким грузом она тронуться не могла.
До материнской избы меня никто не провожал. Наши свойственники, которых я встретил на центральной усадьбе, смотрели на меня косо, как на пьяницу или непутевого. Меня в чем-то будто подозревали. Ну, черт с ними, тогда же сказал я себе. Родни у меня больше нет. Однажды, когда появилась у меня мастерская, а «Огонек» несколько раз печатал репродукции с моих картин, вдруг приехал кто-то из родни с сумкой, с медом, с нашим пахучим малиновым вареньем, я попоил незваного гостя чаем на кухне, собрал все его дары и сказал: «Сегодня можешь переночевать, но чтобы это было в последний раз». Нет у меня родни. Я один за себя.
В избе все было прибрано, мои этюды хранились в холодной летней половине. А в зимней еще пахло матерью, долгой ее болезнью.
В избе я прожил четыре дня. На следующее же утро пришел бригадир, постучал кнутовищем в окно и, не здороваясь, сказал: «Ты скоро уезжаешь? Я собираюсь запахивать и это место». Четыре дня я подкапывал картошку на огороде, резал зеленый лук и ел без хлеба с прошлогодними солеными грибами. С утра до вечера я смотрел старые свои этюды, увязывал в пачки, и накануне своего отъезда, когда бригадир рано поутру должен был пригнать мне грузовик под имущество, я вдруг подумал, что почти не помню лица матери. Помню ее руки, тепло и уют, которые она распространяла вокруг себя, а лица не помню. Помню лицо своей первой учительницы Лидии Владимировны, помню угрюмое лицо отца и его недоверчивый, недоуменный взгляд, который он часто останавливал на мне, а лицо матери забыл. И вдруг ночью непонятная иррациональная паника овладела мною. Я начал вспоминать это лицо. Я засветил две керосиновые лампы, поставил мольберт и в зловещем разгроме переезда, в неприбранной избе с разбросанными вещами и остатками пищи на столе, начал вспоминать…
Руки, оказывается, помнили, помнили лучше, чем мои глаза. Черту за чертой я вспоминал лицо матери. Я написал ее в осеннем теплом платке, стоящей возле старой яблони с облетевшими листьями и с одиноким, тронутым морозцем яблоком, чудом уцелевшим среди ветвей. Здесь так пригодилось мое умение писать все до конца, до каждой морщинки. Две керосиновые лампы отбрасывали на стену мою чудовищную, ломающуюся тень. Мне стало страшно, и как в детстве, когда бывает страшно, кидаешься к матери, так и я кинулся к памяти о ней, силой своего искусства пытаясь в ее старом доме, где она прожила жизнь, вызвать ее, оживить ее своим сыновьим чувством, пытаясь хоть на мгновенье увидеть ее перед собою.
Работая тот раз, я будто бы ничего и не придумывал. Рисунок возник сам собою: старое дерево и старая женщина. В ту ночь я работал и гнал раздумья от себя прочь. Но невольно я все время задумывался над тем, как же сильно у простых крестьянских людей чувство крови, чувство родного. Ведь ни разу не поступила, чтобы было удобно только ей. Я написал, и она стала ждать меня в разоренной деревне, твердя: «Вот приедет сын, тогда и я двинусь». И ведь я действительно собирался приехать сразу после майских праздников. Но тут заканчивалась выставка, стало ясно, что много картин купят коллекционеры. Я понимал, что мать нездорова, у нее одно воспаление легких за другим, надо ехать, ехать. Но я уговаривал себя: привезу кучу денег, отрез ей на платье, туфли новые, приеду и скажу: «На тебе, мать, три тысячи рублей на корову». Я бы дал ей на тысячу, на две тысячи больше, чем она прислала мне.
Когда под утро я заканчивал портрет, я боялся дописать губы. Мне казалось, что, как только я положу последний мазок, мать откроет рот и скажет: «Что же ты так поздно, сынок? Я ведь здесь почти голодом изошла». Я знал, что так, наверное, все и было, потому, как зачумленного, сторонились меня родичи и знакомые на центральной усадьбе. Когда я хотел устроить поминки, все отнеслись к этому так, что я понял: никто не придет. Только одна самая дряхлая в селе старуха сказала мне прямо: «Ты поминок не делай, парень. Мы твою матушку уже помянули. А вот будет девять дней, у меня в хате станем их править, и если ты не уедешь, дождешься – приходи. Только смотри, народ у нас серьезный». От этого с е р ь е з н о г о народа я и сбежал. Ведь на глазах у всех, все знали, мать получала от меня письма, наверное, еще, простая душа, хвасталась: «Сын-студент из Москвы пишет, чтобы пока не переезжала, ждала его». Наверное, еще подчеркивала: «Пишет, чтобы не трогалась, сам меня будет перевозить, заботливый. Знает, что мать здесь одна. Не хочет посторонних утруждать». На глазах у всех и корову мать в марте продавала. Стельную корову. Наверное, все сусеки уже повымела, запасы съела, думала, того и гляди отелится Буренка, и подкормлюсь, отопьюсь парным молочком. Все небось отговаривали: «Да подожди, старая. Кто же весною стельную корову продает?» Но сынок прислал телеграмму, из студенческого скромного достатка за эту телеграмму немалые деньги заплатил, значит, нужда у него крайняя. А сын, крестьянская косточка, он все про крестьянское житье знает, знает, что в деревне корова – кормилица, понимает все ее ученый сын, значит, положение у него пиковое. А сын, зная материнскую безотказность для единого чада, был категоричен. Понимал маменькину психологию. «Срочно продай корову, вышли две тысячи. Юрий». У сына не одна, две незадачи сразу. Доигрался: хотел Марии денег дать, от собственного ребенка хотел откупиться. И первая выставка – тоже образовался непредвиденный расход. Все-таки, скорее, выставка. С Марией уже была ясность.
С выставкой к тому времени все почти сладилось. Дали зал, комиссии посмотрели и одобрили мои картины. Даже отметили, что персональная выставка студента в тот момент, когда за рубежом студенты бунтуют, даже будет иметь политический резонанс. Валяй, студент, шуруй! Но все срывалось, хотя все было разрешено. Стрелочник, как всегда, был виноват. И зал дали, и картины одобрили, но вдруг запил институтский столяр-багетчик и был отправлен на лечение в больницу. Не было на картиных рам. Все тянули, крутили, думали, что образуется, в ректорате искали разные выходы, но когда до открытия осталось пятнадцать дней и уже стало ясно, что по перечислению ни один багетный цех в Москве обрамить семьдесят картин не возьмется, начали вдруг поговаривать, что можно бы взамен индивидуальной сделать отчетную выставку дипломных работ за последнее пятилетие, благо все они в рамах и хранятся в институте. Тут-то и нашел я некоего дядю Васю, который обещал за две тысячи в неделю все качественно сделать, «как у академика».
Ребята с курса, для которых моя выставка как нож в сердце – все-таки вместе учились, и я ничем особенным, кроме настырности, не отличался, а на курсе были и таланты и гении, – ребята с курса уже ходили бодренькие. Каждый считал, что он по крайней мере сделал свою Олимпию, которая, как когда-то в Салоне, сразу вознесет его к известности. А главное, они радовались, что гамузом, все вместе оттеснят настырного втирушку и конъюнктурщика. Они замахнулись на меня! Но я уже созрел. Никто не ожидал, что из скромного деревенского парнишечки вырос боец.
У меня не оставалось выхода, и я дал телеграмму. А что мне было делать? Кем бы без этой выставки я был сейчас? Фортуну только единожды можно оседлать. Тогда-то, обвязав за рога нашу Буренку веревкой, мать и повела продавать ее в райцентр. Моя выставка и мой шедевр стали мне дорого.
Плата уже уплачена, ее не вернуть. О ней можно лишь говорить и сожалеть. Произносить разные слова. Все обертывать словами. Слова в конечном счете покрывают все поступки. Надо только уметь называть вещи своими именами. И уже нет копииста – есть изучение натуры. Нет брошенной матери – есть долг художника. Смерть Марии – выход из душевного тупика. А обвинение дочери – инцидент.

![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)