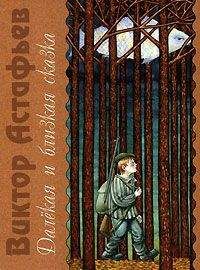Нежданно-негаданно, вроде дяди Терентия, являлся ко двору мятый, цингой порченный, беззубый человек и долго у ворот шамкал, объясняя взрослым детям и жене, что это он и есть истинный муж, хозяин, стало быть, и отец детей. Гнали бродягу от ворот, и случалось, второй, уже настоящий, давно в сельсовете расписанный муж еще и накладет по загривку бедолаге. Чаще же со вздохом говорили: «Заходи». Второй, когда и третий муж затоплял баню, посылал за бутылочкой, и выслушивало тогда семейство такую историю человека, такой его ход по жизни, что и в три романа не уместить.
Случалось, оставался приблудный человек при дворе и семье в качестве кого и сказать не знаешь. Что-то посильное делал в хозяйстве, пилил, подметал, помогал на сенокосе, на пашне и так вот проживал свой век или, оправившись от странствий, заводил себе бабенку, кулемал избушку и начинал жить «своим двором». Все эти приблудные людишки были потом расписаны по кулацким дворам батраками. В уголовном деле деда Павла увидел фамилию первого мужа тетки Августы, которая сейчас вот, когда я заканчиваю эту книгу, умирает мучительно и тяжко.
Мало еще намучил ее Господь! Фамилия теткиного мужа была Девяткин, имя Александр. Как уж он улестил и охмурил молоденькую, голосистую, курносенькую Гуску, узнать нам не дано, однако про жизнь его непутевую я знаю и от бабушки, и от самой тетушки. Работал Александр куда позовут, гулял всюду, где вином пахнет, и однажды собутыльник со зловещей фамилией Убиенных взял и прикончил его. Вышли гулеваны во двор отлить, пристроились к ограде. Убиенных облегчительную процедуру закончил раньше Девяткина, взял палку, ударил его сзади по голове и попал в «шишку», как говорит тетка. Мужик охнуть не успел, свалился замертво, оставив молодую бабенку с сосунком, да еще, оказалось, и глухонемым. Убили Девяткина в двадцать восьмом году, в батраки деду записали в тридцать первом.
Все страшное на Руси великой происходит совсем как бы и не страшно, обыденно, даже и шутливо, и никакой русский человек со своими пороками по доброй воле не расстанется. Разорение села, угробление людей началось с шутками, с прибаутками. Как бы понарошку, как бы спектакль играя, во главе с Митрохой, Болтухиным, колдуньей Тришихой или неутомимой нашей коммунисткой теткой Татьяной в избу вваливалась компания человек из пяти — власть, понятые. «Здорово живем! („Кум, кума“, или „дорогой соседушко“, или „хресный и хресная“, или „золовушка“, или „шуряк“). Мы вот по делам пришли…»
— «Кто нонче без делов ходит? Проходите, садитесь, в ногах правды нет…» Конечно же, все давно знают, кто и зачем пожаловал, хозяева предупреждены, что поценнее спрятано. «Описыватели» же испытывали неловкое смущение — ведь век бок о бок прожили, и если бы не «хозяева», дети прилипал и сами пролетарьи давно бы с голоду и холоду околели иль в других местах ошивались. Христосовались в святцы по праздникам, в Прощенный день прощенья просили, болезни травой лечили, детей крестили, в тайге и на реке друг друга спасали, взаймы хлеб и деньги брали, женились, роднились, дрались и мирились — это ж жизнь, и каждый двор — государство в государстве, население ж его — народ. Братья во Христе.
Словом, начиналось недоброе дело в нашем пестром селе совестливо-туго, с раскачкой, редко кто решался на отпор, редко кто гнал со двора потешную банду, чаще, переморгнувшись с хозяином, сама шасть в подпол или в погреб за грибками, за огурчиками, сам цап за дверку буфета или шкапа, а в шкапу-то она, родимая, томится, череду своего ждет, к застолью сзывает. Опись после возлияния и бесед соответственная: что хозяин с хозяйкой назовут, то и опишут. Все думали, может, обойдется, может, прокатит туча над головой: «Власть совецка постращат-постращат да и отпустит — она ж народная, власть-то, мы за ее боролись, себя не жалеючи…» И частенько, бывало, активисты-коммунисты и в подозрение впавшие соседи иль другие какие элементы, братски обнявшись, провожали по улице до полуночи друг друга, единым дружным хором исполняя: «Рив-валю-уция огнин-ным пламенем пронесла-аася над мир-ром гра-а-азо-ой, з-за слабоду нарр-роднаю, во-ооо-олю ала кроф про-ооо-ли-ла-ся рр-ико-ооой…»
Погуляли, потешились, пообнимались, с активом поцеловались, в любви и братстве поклялись, но вот пришла пора и кончать спектакль, закрывать занавес.
Осенью, уже поздней, навсегда увезли попа. Ребятишки лезли на колокольню, куда им прежде ходу не было, балуясь, звенели в колокола. Чтоб звон не мешал спать, кто-то обрезал веревки, и колокола упали в прицерковный садик, в котором росли большие березы, пихта и еще что-то. Я бывал в этой церкви уже разоренной, поднимался по скрипучим, местами исхряпанным ступенькам. Помню хлам, ломь, ласточкины гнезда и голубей на страшной высоте, с которой довелось мне впервые обозреть окрестный мир и родное угодье. Не умеющий держать даже «теплого молочка в заднице», по заверению бабушки, я ей рассказал о церкви, о том, что в ней отчего-то все желто, все в пыли, сор на полу, на стенах углем написана матерщина. Я думал, бабушка надерет мне уши, но она положила мне тяжелую ладонь на голову и, глядя за окошко, за таежную даль, тяжко-тяжко вздохнула: «Как жить-то без Бога будете?..»
Но вот ныне преспокойно живет на месте церкви бывший руководитель районного масштаба, мелкий пакостник, ашаульник[270], ворюга. Конечно, как и все руководящие деятели этого уровня, осквернитель слова и дела Божьего, он прячется за плотным крашеным забором. Машина в гараже у него дорогая, на месте церковного садика и прицерковных могил теплица сооружена, кусты ягодные насажены, цветки поливает, телевизор с разодетыми внуками и детьми смотрит, губы кривит на современную политику, уверенный, что при нем она была правильней и качественней. Внуки, в иностранное одетые, собаку колли нежат, по селу прогуливают, жвачку пузырем надувают. Бог все терпит, ни пожара, ни мора, ни глада, никакого утеснения в житье и в совести в сей передовой семье не происходит…
Накатила вторая разорная волна на село — не совсем еще гибельная, но все же крутая, забирали имущество, выселяли из домов всех «меченых звездой» — часто на воротах и дверях рядом с крестом ставилась звездочка. И звезду и крест люди стирать страшились.
Пряча добро, отдавая родичам деньжонки и что поценней, при первой описи люди и не таились особо, иногда даже показывали ямы, погреба, амбары, таежные избушки и заимки с тайниками. Эк торжествовали, эк ликовали прозорливые большевики, найдя упрятанное добро. «Да ты ж, курвенский твой рот, сам велел суда прятать!» — «Разговорчики! Поболтай у меня! Быстро пулю схлопочешь!..» У Митрохи, Шимки Вершкова, Гани Болтухина появились наганы, и они, грозно хмурясь, совали руку в карман. Даже тетка Татьяна кричала на дворе, чтобы все мы, прежде всех бабушка Катерина Петровна, слышали: «Вот выдадут мине наган, дак тады узнаете!..» И ребятишки ее и левонтьевские орлы тоже чуть чего — и загремят: «Вот выдадут мине наган…»
В те годы как-то незаметно рассеивался, исчезал куда-то сельский народ, частые случались похороны, торопливые, даже украдчивые, без отпевания, без поминок, без лишнего шума и слез. Долго лежала в неубранной постели, в недостроенном доме Акулина Вершкова: сама себе что-то кипятила, пила, шатаясь ходила до ветру за избу, потому как ни стаек, ни отхожего места на голом, рано опустевшем огороде не было. Как, когда умерла Акулина, где ее похоронили, кто хоронил? Исчезла женщина, и все. Осталось трое ребятишек и муж-гуляка с наганом, балагур, скабрезник, часто он и не ночевал дома, наган терял.
Дом этот, без заборов, со свисающим из пазов мхом, с небеленой печью посредине, с недорубленными, наспех горбылем забранными сенями, с едва сколоченной оградой, но зато с парадно высящимися воротами, с резными ставнями, конечно же, сделался пристанищем левонтьевской и всякой другой братвы. Тут, в этом доме с выбитыми стеклами, твори Бог волю — можно было рубить, пилить, топить дымящую печку и варить чего Бог послал, матершинничать, но главное, можно позабавляться настоящим наганом, который у пьяного Вершкова из кармана выуживали ребята, да он и сам давал «поиграть курком». Здесь, в пролетарском приюте, парнишки показывали девочкам, а девочки парнишкам стыдные места, и здесь же мы впервые попробовали жареных грибов — шпеенов. Росло их, этих шпеенов-шампиньонов, за околицей, в логу, куда вывозили со дворов навоз, видимо-невидимо, и китайцы, приезжавшие из города за назьмом, показывали большой палец, чмокали губами, мол, съедобно и вкусно, учили, как грибы надо собирать и готовить, крошить, жарить с луком.
Когда первый раз мы нажарили этих грибов и наелись от пуза, то долго с напряжением ждали, кто первый помрет. Бабушка в ответ на мое сообщение о невиданных грибах ощупала мое брюхо, лоб и, как было часто в последнее время, загорюнилась: «Ой, робятишки, робятишки, совецка власть токо-токо накатила, а вы уж всякого сраму наимались и наелись. Дале-то чё будет? Чем жить, чем питаться станете? Ведь спагубите землю-то, изведете все живое, траву стопчете, лес срубите и утопите. Ты погляди, погляди уж по селу да по берегу голой ногой не ступишь…»