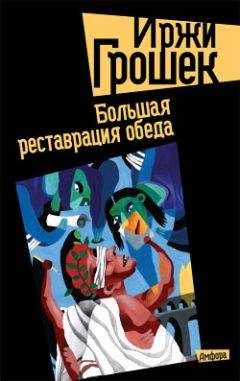Когда Машкина зажимали, он мигал ему одним глазом, дескать: я с тобой. А другим глазом мигал своему начальнику Нефедову, дескать: я все понимаю, я с вами. И у него тогда просто глаза разъехались в разные стороны от этих миганий. И рот тоже перекосился, потому что надо было улыбаться туда и сюда. Твердый оклад оказался тяжелым хлебом. Хотелось перестать мигать и улыбаться, а просто насупиться. Не участвовать в известном конфликте „художник и власть“, где одно противостоит другому, исходя из двух законов диалектики: „отрицание отрицания“ и „единство и борьба противоположностей“. Случались в истории и согласия, и они тоже были плодотворны, но это уже другой разговор. А в данной истории — Машкин зависел от Вишнякова, Вишняков — от Нефедова, Нефедов — от своего начальника, а тот — от своего. И так далее, как в одном организме, где все взаимосвязано и нельзя исключить ни одного колечка в цепи.
Художник может и не зависеть, а рисовать себе одному и сохранить самоуважение. Но самоуважения недостаточно. Необходимо уважение толпы. Копить и творить — это полсчастья. А вторая половина счастья — делиться собой с другими. Отдавать свои глаза, чувства. Как в любви. Поэтому Машкину была нужна выставка, и Машкин тоже был завязан в цепочку.
Вишняков подумал, а что будет, если через сорок минут он выпадет из этой цепочки. Что изменится? На его место поставят Гладышева. Гладышев будет этому рад, поскольку надо было бы ждать, пока Вишнякова повысят или он уйдет на пенсию. А так экономия жизни. Гладышев будет доволен. Нефедову все равно. Почти все равно. А больше ничего не изменится. Место Машкина занять нельзя. А место Вишнякова можно. И какой смысл сидеть и спасаться? Что за драгоценность его жизнь?
— Пойдем! — сказал он жене.
— А сколько прошло? — спросила Наташа.
— Сорок минут.
— Ты что? — Наташа забыла на нем свои недоуменные глаза. — Никуда я не пойду. И ты не пойдешь.
Володя поднялся с дерева, потянулся всем телом, чтобы одолжить жизненной праны у чистого воздуха, чистого неба. Снег сверкал. От дерева в глубь леса уходили мелкие следы. Кто это был? Заяц? Лиса?
Если бы можно было вернуться в двадцать лет назад и начать все сначала. Но зачем возвращаться в двадцать лет назад? Можно в любом возрасте начать все сначала, как в песне: „Не все пропало, поверь в себя. Начни сначала. Начни с нуля“. Он мог бы с завтрашнего дня отказаться от своей должности, отрастить волосы, надеть черный свитер и размочить свои старые кисти. Можно даже пойти в бедность и неопределенность — жена согласится. Он в нее верил. Но что дальше? Свитер, волосы и даже бедность — это декорация. Внешний фактор. Главное — что внутри человека. А внутри он, Володя Вишняков, стал другим. Он отличался от прежнего так же, как рабочая лошадь отличается от мустанга. Или собака от волка. То и не то. Двадцать лет сделали свое дело. Уйдя с работы, он все равно останется промежуточным звеном в цепи, только с длинными волосами и без привилегий. Какой смысл? Если бы можно было, как Иван-дурак, нырнуть в три котла и выйти оттуда Иваном-царевичем. Но это под силу Коньку-Горбунку, а не этому сумасшедшему, должно быть, старику.
Значит, все будет как будет. И если этот ясновидящий действительно ясно видит и через сорок минут кому-то придется перемениться, а кому-то остаться, то пусть лучше останется жена. Она нужнее. Дочери нужнее. Ученикам, которые верят ей и поклоняются. Потом, когда они вырастут и встанут на ноги, — отринут всех кумиров. Это потом уже „не сотвори себе кумира, ни подобия его“. А сейчас, пока учатся, ищут себя — без кумира не обойтись. Постареет — будет внуков нянчить. Опять большая польза.
Вишняков снова сел на дерево, поглядел на жену. Она задумалась и походила на обезьяну без кармана, ту, которая в детстве потеряла кошелек. Вишняков давно не видел своей жены. Он как-то не смотрел на нее, не обращал внимания, как не обращают внимания на свою руку или ногу. Она задумалась, выражение задумчивости старило ее. Вообще она мало изменилась за двадцать лет. Вернее, в чем-то изменилась, а в чем-то осталась прежней, особенно когда смеялась или плакала. Позже всего стареет голос. Поскольку голос — это инструмент души. Талантливые люди вообще мало меняются. Они как-то меньше зависят от декораций.
— Что? — Наташа заметила его взгляд.
— Если бы я не пошел служить, кем бы я стал? Журавцовым?
— Вишняковым, — ответила Наташа.
— Ты бы хотела этого?
— Для меня это не важно.
— А что для тебя важно?
Наташа задумалась.
Нарисовала возле домика забор. Теперь в домик не войдет никто посторонний. Внутри тепло. Горит печка. Варится еда. Возле печки хозяйка. В люльке младенчик. Нехитрая еда. Нехитрые радости.
Наташа вспомнила, как Володя заставил ее родить дочь. Еле уговорил. На колени вставал. Ей тогда было некогда, обуревали какие-то важные замыслы, помыслы, промыслы, конкурсы, выставки, молодые дарования. А теперь — что у нее есть, кроме дочери? Ученики? Но они станут или не станут художниками не по ее милости, а по Божьей. И ее задача — не мешать им стать теми, кто они есть.
Когда дочка родилась, Наташа два дня рыдала от одной только мысли, что ее могло не быть.
Володя встречал ее из роддома. Нянечка протянула ему сверток, Володя отогнул треугольник одеяла, который прикрывал лицо, и встретился с синими растаращенными дочкиными глазами. Он очень удивился и никак не мог сообразить: куда же она глядела, когда одеяло закрывало ее лицо? Просто лежала в черноте? Может быть, она думала, что еще не родилась? А может быть, такие мелкие дети ничего не думают? У них еще мозги не включены?
Это было в январе. Летом они переехали на дачу. Дочке было полгода. Наташа отправилась однажды в город, мерить какие-то заграничные тряпки. Это было возвращение к прежней, добеременной жизни, и эта жизнь так поманила, что Наташа опоздала на дачу. Пропустила одно кормление. Пришлось накормить ребенка жидкой манной кашей. Володя встретил ее на платформе и официально сказал: „Ты ответишь мне за каждую ее слезу“.
Каждая дочкина слеза была свята. И каждый зуб. И каждое новое слово. И сейчас нет ничего, что несущественно: контурные карты, сборник этюдов Гедике, длина джинсов, ограничения в еде. То, от чего Наташа отмахивалась, для Володи имело жизненно важное значение, не может девочка быть толстой и» ходить в коротковатых джинсах. Неправильная внешность — это бескультурье. И нет ничего, что между прочим. Во всем должен быть порядок. В доме должен быть порядок — и она убирает, пылесосит, проветривает. В доме должен быть обед. И она, как на вахту, каждое утро выходит к плите. Еда должна быть грамотной и разнообразной — и она сочиняет соусы, заглядывает в поваренную книгу, и это действо из унылой обязанности превращается почти в творчество.
Семья собирается за обедом, перетирает зубами витамины, белки и углеводы. А она сидит и смотрит и испытывает почти счастье. Жизненный процесс обеспечен, и не только обеспечен, а выдержан эстетически. Грамотная еда, на красивых тарелках, на чистой скатерти. Его высочество Порядок. Порядку служат. Ему поклоняются. Порядок — это твердый остров в болоте Беспорядка. Есть куда ногу поставить. А сойдешь — и жижи полный рот. А потом засосет до макушки и чавкнет над головой. И все дела.
Что было бы с ней, если бы не было Володи? Зачем обед? Можно и так перекусить. Зачем торопиться домой? Можно ночевать где угодно, где ночь застанет. Носить с собой, как Галька Никитина, зубную щетку в сумке. А сейчас она из любых гостей, из любой точки земного шара возвращается вечером домой. И садится с семьей у телевизора. Володя — в кресло. Она с дочкой — на диване, плечо к плечу. Климат в доме — как в сосновом бору. А посади вместо Володи Мансурова — и климат переменится. То ли замерзнет дочь от одиночества. То ли Наташа задохнется от засухи. То ли вообще нечем дышать, как на Луне.
Иногда Володя приходит злой и ступает по дому, как бизон по прериям. Или наступает целый период занудства, когда он недоволен жизнью, у него такое лицо, будто ему под нос подвесили кусочек дерьма. И надо терпеть. Но терпеть это можно только от Володи. А не от Мансурова. Мансуров может вызвать аллергию, как, например, собачья шерсть. И начнешь чесаться. Почешешься, почешешься, да и выскочишь в окно вниз головой.
Да и где этот Мансуров? Ку-ку… Где он режет воздух своей иноходью ахалтекинца? В каких краях белеет его парус одинокий в тумане моря голубом? Наверное, понял, что Наташа — жертва Порядочности, и решил не тратить душевных ресурсов. Прогоревшее мероприятие надо закрывать, и как можно скорее.
Мансуров — это бунт против Порядка и внутри Порядка. Шторм, когда морю надоедают свои берега и оно бесится и выходит из берегов, чтобы потом опять туда вернуться и мерно дышать, как укрощенный зверюга.
Она вдруг подумала, что если бы сейчас здесь появился Мансуров, подошел, проваливаясь в снег, — сделала бы вид, что не узнала. Что было, то было и так и осталось в том времени. А в этом времени есть Володя, она и их домик за забором. Если бы Мансуров, например, затеял с Володей драку, она приняла бы сторону мужа и вместе с ним отлупила бы Мансурова. Хоть это и негуманно.