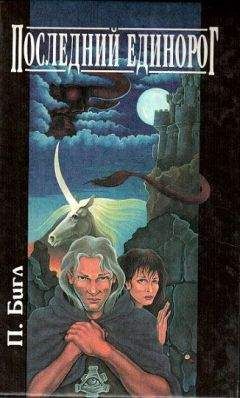– Перевираешь.
– Да, уж получше, чем любой треклятый пуэрториканец, – восхищенно сказал Уолтерс.
– Кубинец, ублюдок, – беззлобно поправил верзила. Он снова соскользнул на сиденье и выглянул в окно.
К Ворону в дальнем конце кузова присоединилась маленькая рыжая белочка, которая упала с нависавшего над дорогой дерева, когда грузовичок проходил мимо. Белочка была худенькой, с большими яркими глазами, и уселась она на одну из цепей, которые держали откидную доску. Она спросила:
– Что это ты такое делаешь?
– По своей воле совершаю путешествие, – сказал Ворон, которому белки не нравились ещё больше, чем голуби. – А на что похоже то, что я делаю?
Белочка поднесла передние лапки к пушистой груди.
– Но ведь ты же птица! – сказала она в изумлении. – Почему ты не летаешь?
– Я вышел на пенсию, – спокойно сказал Ворон.
Грузовик совершил очень крутой поворот, и белочка почти потеряла равновесие на цепи. Она испустила короткий тревожный писк и уставилась на Ворона.
– Птицам положено летать, – сказала она немного ворчливо. – Ты что, хочешь сказать, что вообще больше летать не собираешься?
Мало-помалу Ворон обратил внимание на то, что движение грузовичка по гравийной дорожке существенно отличается от полёта. В желудке у него возник слабый ропот неудовольствия – отдалённый, словно первый раскат грома во время грозы.
– Никогда, – сказал он с важностью, – отныне я навеки – пешеход.
Одну за другой грузовичок пересёк две борозды, и Ворон спокойно улёгся и воззрился на белочку, которая дважды пробалансировала, изящно махнув хвостом.
– Лично я, – изрекла белочка, – не знаю, пожелала бы я летать или нет. В конце концов, это неестественный способ передвижения, утомительный, опасный, чреватый повреждениями всех видов. О, я могу понять причины, по которой ты хочешь оставить это дело. Но в конце концов – это то, для чего ты родился. Точно так же, как и я родилась для того, чтобы стать белкой. Рыбы должны плавать, а птицы летать. Бог сотворил их всех для высоких и низких дорог, и каждому указал его владения. – Она смущенно кашлянула. – Боюсь, две последние фразы – не мои.
– Возможно, ты меня и дурачишь, – сказал Ворон.
– Любая жизнь состоит из двух основных элементов, – сказала белочка. – Цель и поэзия. Будучи самими собой: белкой и вороном, мы выполняем первое требование – ты летаешь, а я бегаю по деревьям. Но во всякой незначительной жизни есть и поэзия. И если мы её не находим, мы не реализуем себя. Жизнь без пищи, без крова, без любви, жизнь под дождём – это ничто по сравнению с жизнью без поэзии.
Ворон приподнял голову со дна грузовичка.
– Если бы я был соколом, я бы проглотил тебя в два приёма, – вяло заметил он.
– Конечно, – сразу же согласилась белочка. – Если бы ты был соколом, твоим долгом было бы съесть меня. Такова цель всех соколов: есть белок. И я могла бы добавить – сусликов. Но если бы ты съел меня, вовсе не оценив при этом своего быстрого и меткого удара сверху вниз и не ощутив некоторой жалости, вспомнив о моём бездумном и тщетном бегстве к моему дереву, где обитает моё семейство… Ну, не такой уж ты был бы тогда и сокол. Вот и всё, что я могу сказать.
Она выпрямилась, стоя на доске, как если бы стояла лицом к стрелковому взводу и только что отказалась от сигареты и повязки для глаз.
– Именно существа вроде тебя делают вещи, тяжёлые для тех, кто не борется, – с горечью сказал Ворон. Он встал и прошел в конец грузовичка, чтобы взглянуть на откидную доску. Грузовичок приближался к запущенной тропке, которая вела к мавзолею Уйалдера. Вспомнив о сэндвиче с ростбифом, Ворон вернулся и довольно неуклюже схватил его в клюв.
– Ты здесь выходишь? – спросила белочка. Ворон кивнул.
– Что же, было очень интересно с тобой поговорить, – серьёзно сказала белочка. – Заглядывай, если когда-нибудь очутишься неподалёку. У нас каждый субботний вечер бывает небольшое сборище. Если ты как-нибудь вечером будешь свободен…
Но Ворон уже удалился, тяжело взмахивая онемевшими крыльями и двигаясь над узкой тропой к мавзолею. Повернув голову, он увидел, что грузовичок, накренившись, продолжает путь. Как только грузовичок скрылся, Ворон рухнул наземь и решительно зашагал по тропинке.
«Я не мог топать пешком, – подумал он, – пока эта маленькая пушистая дрянь тявкает на меня. Белки впадают в какой-то дурацкий энтузиазм по поводу чего угодно».
Гравий скользил у него под ногами, не больно-то давая его когтям за что-либо ухватиться и вызывая в ногах боль. Приятное ощущение стремительности движения, которое он испытывал на грузовике до того, как возникло раздражение в желудке, исчезло. И появилась мысленная картина: чёрная птица, не очухавшаяся от морской болезни, спотыкающаяся на скользкой дороге и повреждающая себе ногу. Образ был совершенно неуместный, Ворон вздрогнул и прогнал его из сознания. Ибо он, неохотно и неясно, но всё же верил в чувство собственного достоинства. Но он шёл все дальше. Как-то он обернулся и увидел ласточку, кругами снижающуюся в небе. Крылья его непроизвольно дернулись, словно дети, потянувшие назад отца, но он не поддался. Он шагал по гравийной дорожке и думал о белочке.
«Организаторы чертовы, – думал он. – Чуть у тебя что-то пойдет хорошо, является кто-то и организует». Он сказал себе, что это неизбежно, что так устроен мир, но мысль эта его только завела. Он с удовольствием бы ввязался в движение, основная цель которого – хаос, ужас и дезорганизация, если бы только не знал, что подобный проект потребует самой чёткой организации изо всех возможных. Кроме того, сюда бы непременно встряла и белочка.
– Сборища по вечерам в субботу, – пробормотал он в сэндвич, ковыляя к мавзолею. – Маленькие, совсем крошечные «хот доги», надетые на зубочистки. Ишь ты… – ноги его немного ныли, сэндвич снова стал тяжелеть.
Майкл Морган не шуршал гравием, и когда он сказал: «Добрый день, птица», Ворон выронил сэндвич и тут же отскочил на четыре фута, перевернулся в воздухе, и теперь оказался лицом к приближающемуся Майклу. И выругался ещё до того, как коснулся ногами земли.
– Что ещё за шутки! – яростно каркнул он. – Что ещё за возмутительные штучки!
Майкл беззвучно хлопнул себя по бёдрам, а из его глотки вырвался раскатистый смех, безмолвный, как зигзаг молнии.
– Я не знал, что ты это так воспримешь, – он вздохнул и протянул руку, чтобы успокоить рассерженную птицу. – В самом деле не знал. Прости меня. Извини, пожалуйста, – он внимательно посмотрел на запылённого Ворона. – Почему ты сегодня такой чувствительный?
– У меня было скверное утро, – сказал Ворон. Он почувствовал, что играет в глупую игру, но он терпеть не мог, когда его застигали врасплох.
– Ты что-то уронил, – сказал Майкл, указывая прозрачной ногой на сэндвич. – И, о, Господи, почему ты не летаешь, а ходишь?
– Надоело.
– Скажи мне, почему ты вздумал ходить? Я любопытен.
– Занимайся своими дурацкими делами, – сказал Ворон, но произнес это рассеянно, словно вовсе и не думая о Майкле.
– А ты знаешь, о чём я думаю? – Майкл сложил ладони и улыбнулся. – Я думаю, что ты позабыл, как летают.
Ворон уставился на него в изумлении.
– Что-что?
– Ну конечно же, – восторженно продолжал Майкл. – Это вроде игры на фортепьяно. Ты знаешь, что прекрасно играешь, тебе даже ноты не нужны. А затем ты смотришь на свои руки и думаешь: А как же я сделал то, как я делаю это и что сделаю потом? Тут-то всё у тебя и летит. Ты забываешь, как двигают пальцами, как нажимают на педаль и даже – саму мелодию. Вот что с тобой стряслось, друг мой. Ты слишком много думал, и теперь не помнишь, как летают.
– Шёл бы ты домой, – сказал Ворон. Он ещё раз подхватил сэндвич с ростбифом и зашагал дальше. Майкл пошёл с ним в ногу, продолжая разговор.
– Это происходит оттого, что ты слишком много находишься среди призраков, парень. Это тебе вредит. Ты начал становиться одним из них. Клянусь космосом, это так. Ты начал забывать вещи и как их делают. Ты двигаешься медленно, как призраки, ибо ничто в мире не способно тебя поторопить. О, ты делаешь успехи, приятель, раз уже забыл, как летают. Ещё несколько дней – и ты сможешь вступить в наш шахматный клуб, и мистер Ребек станет переставлять за тебя фигуры.
Ворон на секунду остановился и посмотрел на Майкла, вроде как – с жалостью. Затем опустил наземь сэндвич и опять в упор взглянул на Майкла.
– Смотри внимательно, – сказал он, сделал два быстрых шага и поднялся в воздух.
Ветер вызвал у него головокружение, и он как бы слегка захмелел. Ворон облетел дерево на расстоянии нескольких дюймов, затем словно соскользнул по невидимому канату к дереву поменьше, после чего пролетел ещё 20 или 30 футов почти по прямой. Достигнув предельной высоты, он упал на одно крыло и начал медленно снижаться по спирали, словно осенний лист. Он скользил маленькими угловатыми кругами, ни разу не взмахнув крылом, пока не опустился до уровня Майкловой головы. Затем совершил неуклюжее движение крыльями, затормозил, буквально молниеносно, и уселся на дерево слева, тяжело дыша, с неровно и редко бьющимся сердцем.