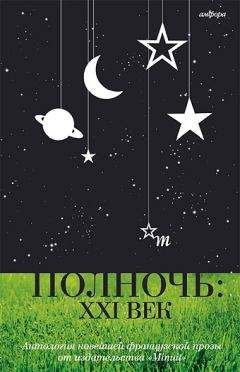Два дня, у него на это уйдет почти два дня, сказал, должно быть, Людо, а ведь на самолете все заняло бы каких-то шесть часов, от двери до двери. Если он отправится по железной дороге и морем — если повезет и он согласится сесть хотя бы на паром, но, насколько я его знаю, он постарается как можно дольше оставаться на суше, пресловутые фобии, все это началось давным-давно, поэтому-то он так ни разу нас и не навестил, его невозможно сдвинуть с места, даже ради нашей свадьбы… Мать очень от этого страдала и в конце концов поймала его на слове, потому что он все время повторял, что ей не остается ничего другого, как ехать без него, что он, напротив, будет доволен, если она перестанет приносить ради него в жертву свою тягу к путешествиям, перестанет постоянно его упрекать и громоздить уловки, по нескольку раз в год, она не могла от этого удержаться, заманивая кокетством, жеманством, ласками, если ты меня действительно любишь, всего один раз, в честь годовщины нашей свадьбы, для меня это будет лучшим подарком… И все это кривлянье под тем предлогом, что они женаты и вполне естественно делать все это парой, выходить, уезжать, вдвоем, вне дома, показываться на людях вместе, для Веры это было очень важно, тогда как внутри, то, что происходило внутри… причем задолго до того, как она начала путешествовать, безо всякого смущения выходить без него, без задней мысли, на лету осознав, что в сто раз лучше сумеет воспользоваться проведенными с другими вне дома моментами, с тех пор как он ее больше не сопровождает, вечно недовольный, неразговорчивый, зевающий, невежливо поглядывающий на часы… но в ту пору отказ ответить на приглашение вместе с Верой влек за собой растягивающиеся на несколько дней драмы, в ту пору он не выдерживал налагаемых ею на него епитимий, в особенности продолжавшегося как-то чуть ли не месяц отлучения от супружеского ложа.
Он подумал было позвонить Людо и спросить, кто же, собственно, из них, главврач или Вера, счел неотложным и необходимым сорвать его с места, но так этого и не сделал, зная, что ответу будет грош цена, поскольку Людо не преминет произнести требуемую в данный момент сценарием фразу: Она звала и зовет тебя. А то и: Твое имя не сходит у нее с языка…
Он встал, подошел, привлеченный нелепым тарахтением мотора на улице, к окну и увидел, как, с трудом толкая по тротуару газонокосилку, по солнцепеку вверх по склону тащится старик, наклонившись вперед, вытянув руки, с покрасневшим лицом, решивший, наверное, что легче толкать газонокосилку по асфальту с включенным мотором. Подстригая тротуар… да, кстати, надо бы подстричь лужайку.
Вера уехала пять дней тому назад, и, как всегда, он постарался совместить с ее отъездом те две недели отпуска, которые обычно брал летом и посвящал насущным работам по дому, на этот раз он наметил перекрасить снаружи рамы и ставни первого этажа.
Утром он отвез ее на вокзал, стараясь вытерпеть ее обычное возбуждение, каковое после неистового крещендо вчерашнего вечера достигло своего апогея в тот момент, когда пришла пора садиться в машину, затем, по мере того как они отъезжали от поселка, напряжение сошло на нет благодаря длинному, бессвязному монологу, которого он не прерывал, но и не слушал, поскольку она только и делала, что повторяла уже сказанное за завтраком, комментируя записанные на разных клочках бумаги мысли, которые не один раз прокручивала в голове ночью, и теперь они вперемешку всплывали у нее в машине: точный вес багажа, двадцать раз проверенный на весах, надежда на то, что на регистрации не станут придираться к перевесу в пять-шесть килограммов, что ему нужно докупить в ближайшие дни ливаро[10], маленькие козьи, вино и прочие гостинцы, которые она традиционно отвозила Людо и про отсутствие которых в Финляндии знала наверняка, жара, страх, что придется бежать, что она что-то забыла, дурные предчувствия касательно того, что в доме и особенно в саду пострадает из-за ее отсутствия… сплошной поток, повторяющийся, кисло-сладкий, пока она копалась в сумочке, разглядывала себя в зеркальце пудреницы, с равным кокетством пугалась и смирялась, издавая громкие вздохи, раздосадованная, что он не прикладывает ни малейших усилий, чтобы прикинуть вместе с ней, что она могла бы, может, должна, о важных вещах, я уверена, потом до меня дойдет, но ты даже не слушаешь, тебе наплевать… и она переключилась на следующую скорость.
Последняя, всегда чреватая нападками фаза Вериного возбуждения в машине заставляла вскипеть между ними старые чувства, ожоги, которые, должно быть, доходили и до нее, даже если она, похоже, и научилась за три года перемирия вовремя плеснуть воды в пламя, от поддержания которого не могла удержаться, укусы, чей масштаб она с некоторых пор неплохо контролировала, ослабляя хватку как раз вовремя, чтобы он не застонал, и вместе с тем зная, что, если хочешь проникнуть сквозь постоянно утолщающийся панцирь, надо впиваться сильнее, проявлять, стало быть, куда больше энергии ради неизбежно сомнительного результата. Но, возможно, к безрассудствам ее подталкивала сама ситуация, ибо ввиду надвигающейся разлуки, каковую решительным образом должен был вот-вот провозгласить свисток начальника поезда, она, чего доброго, чувствовала, что может пойти на риск, напасть, не опасаясь, что придется вести настоящий бой что момент идеально подходит для того, чтобы испытать остатки своей власти над ним, провоцируя его, не оставляя иного выхода, кроме как ответить, как раз перед выгрузкой на привокзальной парковке. Она торопливо распахнула дверцу, хлопнула ею. Через несколько секунд они оказались у багажника, каждый готов вытащить оттуда багаж, рядом друг с другом, ожидая соприкосновения рукавов, чтобы столкнуться локтями, и он схватил ее за руку и сжал ее, она же сдержанно, чтобы не привлекать к себе внимание, отбивалась. Сжимая ее плоть, он требовал незнамо чего, чтобы она повторила только что сказанное в машине, последнее надругательство, в общем-то так и было, чтобы повторила его, глядя ему в глаза, то есть чтобы подняла к нему лицо: мне больно, я опоздаю на поезд, я не помню, что сказала, перестань, что за идиотизм, отпусти. Он, крепко ухватив ее левой рукой за подбородок: Смотри на меня, его большая рука сжимала низ ее кривящегося лица, как будто он собирался раздавить его вместе с ее рукой, он сжимал все сильнее, пока выкатившиеся от в равной степени пугающей и постыдной муки глаза Веры не закрылись под напором так и не хлынувших слез. Она выдавила из себя какое-то извинение, попыталась улыбнуться: это глупо, ты же знаешь, что меня тянет за язык всего-навсего тревога перед отъездом, ну что, вот так и расстанемся…
Она положила ладонь ему на грудь, умиротворяюще потеребила пуговицу на рубашке. Он ослабил хватку, захлестнутый знакомой смесью ярости и отвращения, подстегивающей его желание, она это видела, это чувствовала, что-то сверкающее и приторное прокатилось по ее слегка припудренным, словно в насмешку предлагаемый мармелад, щекам, подняв к нему лицо, она нажала ладонью ему на грудь, при этом в горле у нее возник какой-то негромкий звук, не то вопрос, не то просьба, надежда, как он понял, что он обхватит ее рукой за плечи и отведет на перрон, где наспех и поцелует, надежда, что они выдадут пассажирам сей спектакль, трогательный и необычный, если вспомнить об их возрасте, и она войдет в вагон с сияющим раскрасневшимся лицом, наслаждаясь их завистливыми мечтаниями вплоть до самого Парижа…
Но он оттолкнул ее, подхватил тяжелый чемодан, закрыл машину и в одиночку, не оборачиваясь к ней, прошел в вестибюль, на перрон ко второму пути. Поставил чемодан рядом со скамейкой и тут же ушел, не бросив ей ни слова, ни взгляда. Нередко он слышал, как она тихо окликает его за спиной. Однажды она дотронулась до его руки, чтобы ее удержать, и он сказал, что не берет чаевых, предоставив ей обдумывать эту фразу, смысл которой от нее, конечно же, ускользнул… однажды… это было в последний раз, пять дней тому назад, их последние слова на перроне: она произносит его имя и трогает его за рукав, а он отказывается от чаевых, даже не взглянув на нее.
Он дождался отправления поезда в машине, чувствуя, как пульсируют жилы на руках и шее. Удовлетворение от того, как изящно он ее отделал, быстро сменилось отвращением. Гнев, как всегда, мешал восстановить сцену с того момента, когда они сели в машину, и до того, когда он схватил ее за руку у открытого багажника. Он уже забыл, что же такого жестокого, перед тем как выйти из машины, умудрилась она сказать, что он ее тронул, нагрубил и в конце концов просто животно, как она того и хотела, возбудился от мысли, что они могли бы прямо тут расстаться как любовники. Он не понимал, почему так не поступил, почему чувство гадливости от ее довольства оказалось сильнее, чем желание сжать ее в объятиях, впиться в губы, просунуть сквозь них язык, в который она тут же, посреди вокзала, у всех на виду, жадно бы впилась, опьяненная непристойностью их поведения, он пытался разобраться, почему сама мысль об этом опьянении оказалась для него настолько отвратительной, что совершенно его охладила, заставила изобразить носильщика и заговорить о чаевых, и слова «испорченность», «унижение», «достоинство» долбили у него в мозгу податливый вопрос его желания, ибо не стал ли бы поцелуй, какою бы ни была его цена и пусть даже исполненный на скорую руку на вокзальном перроне, все же приемлемым в абсолютном ничто их холодной войны?..