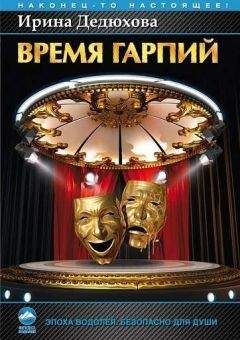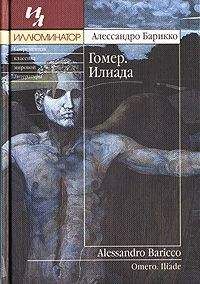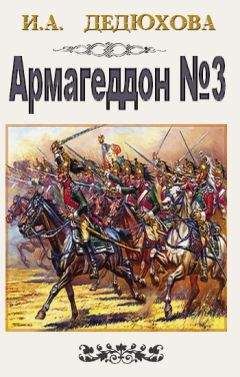Последующее она почти не помнила, потому что толком не поняла, что произошло. Наверху раздались крики «Горим! Горим! Ломай двери!» Сзади нее стало светло и раздался свист, будто кто-то прямо в подъезде запустил петарду. А когда вдруг все закричали спускавшиеся к ней полицейские, в ушах зазвенел крик Сфейно: «Беги!»
Но самой Сфейно нигде не было, вместо нее от заоравших благим матом полицейских спустился столб нестерпимо яркого пламени. Обжав жаром прижавшуюся к стенке Эрато, это пламя всей силой обрушилось на застывшую в растерянности посреди дверного проема Аэллопу. На гарпии разом вспыхнули перья, а светящийся столб пламени, издалека напоминавший женскую фигурку, вырвался из подъезда.
В подъезде сразу стало светло и шумно, запахло гарью, веселым огнем затрещали деревянные перила, загорелась висевшая на одной петле входная дверь. Сквозь бой курантов многочисленных часов, гулким эхом раздававшихся по всему дому, что-то кричали метавшиеся по горящей квартире полицейские. Было слышно, как перед ними с грохотом захлопывались двери. Прямо перед нею к выходу прорывались два отчаянно оравших, объятых пламенем мужчины, один из которых начал стрелять из травматического пистолета, не целясь, в дверной проем, попав в крыло Аэлло, пытавшейся крыльями забросать снегом метавшуюся по двору сестру. Возможно, полицейский хотел попасть в Сфейно, продолжавшую добивать возле мусорных баков истошно кудахтавшую Аэллопу. Вряд ли он мог видеть гарпий, выстрелив в Аэлло совершенно случайно. Оба полицейских выскочили из подъезда мимо Эрато, упав в свежий снег, пытаясь сбить пожиравшее их пламя. Эрато, не медля, рванула мимо них по сугробам к своей машине, испытывая нечто вроде благодарности к полицейскому, открывшему беспорядочную стрельбу в подъезде. Она знала, что Аэлло ни за что не станет преследовать ее, пока не расправится с причинившими ей боль людьми. Но когда она снимала машину с сигнализации, то в ответ на веселый писк ее ласточки она услышала, как гарпии особым визгом призывают на помощь коней Подарги.
…И задал
Некто, один из вельмож, вопрос: из сестер почему же
Волосы только одной перемешаны змеями были?
Гость же в ответ: «Раз ты вопросил о достойном рассказа,
Дела причину тебе изложу. Красотою блистая,
Многих она женихов завидным была упованьем.
В ней же всего остального стократ прекраснее были
Волосы. Знал я людей, утверждавших, что видели сами.
Но говорят, что ее изнасиловал в храме Минервы
Царь зыбей. И Юпитера дщерь отвернулась, эгидой
Скрыв целомудренный лик. Чтоб грех не остался без кары,
В гидр ужасных она волоса обратила Горгоны.
Ныне, чтоб ужасом тем устрашать врагов оробевших,
Ею же созданных змей на груди своей носит богиня»
Овидий «Метаморфозы», Четвертая песня
….А без малого сорок лет назад Эвриале долго искала, а потом нашла Каллиопу, но отнюдь не Москве, а в каком-то невзрачном городе на востоке огромной страны, ближе к северу. В поисках «идущей за царями» она ориентировалась по отсвету в хрустальном флаконе со стилосом и восковой табличкой, выгравированными на его лицевой стороне. Ее давно не удивляло, что флакон ни разу не сверкнул гранями возле трехэтажного здания литературного института на Тверском бульваре или в дачном поселке писателей на Николиной горе.
Принятая как данность литературного таланта «партийность в литературе» не только искажала внутренний мир писателей, но катастрофически сказывалась и на их душевном состоянии. Столичные соблазны, тут же становившиеся доступными, как только в своем творчестве человек хоть в чем-то отступался от собственной души, хоть в чем-то не договаривал или лгал — немедленно уничтожали слабенький отблеск вдохновения во флаконе с атрибутами Царицы Муз. Некоторые писатели, напротив, пытались «искренне верить», стараясь «проникнуться идеей», попутно гася души читателей неистовой приверженностью к ложным идеалам. И не столько в тех, кто писал гадости и строил свою карьеру на отрицании «завоеваний социализма», сколько в самых преданных апологетах «всеобщего равенства» Эвриале чувствовала разверзнувшуюся бездну предательства. Прежде чем кто-то предаст других, он непременно предаст самого себя.
По ночам, рискуя быть замеченной вездесущими гарпиями, она расправляла крылья и взлетала в темное небо, держа хрустальный флакон перед собой. Как только огромное море столичных огней внизу уплывал на запад, флакон начинал озаряться неровными багровыми всполохами настоящей силы.
Днем на стареньких рейсовых автобусах она переезжала из города в город, глядя на серые деревеньки за окном, удивляясь, какую огромную страну создали люди, начавшие понемногу забывать о том, что на самом деле их объединяло. Она вглядывалась в их лица, на которых отражались ежедневные житейские заботы, и ей все больше хотелось увидеть, как начнут меняться эти люди, как расправятся их лица от мрачных мыслей, усталости и равнодушия, как сквозь кожу начнет теплым ровным светом пылать душа, отгоняя от себя гарпий.
Свет в колбочке становился все ярче, и с его все более продолжительными вспышками росло нетерпение Эвриале. Ей все больше хотелось узнать, какой будет новая Каллиопа? Где бы она ее не встретила раньше, на каком бы языке не говорила «шествующая за царями», — она ни разу не повторилась, каждый раз находя свои собственные оттенки в Прекрасном Слове, говоря о вечных вещах и непреходящих ценностях одной лишь ей присущей интонацией. Это поражало Эвриале больше всего.
На четвертый день своего путешествия с осмотрами достопримечательностей и ночными полетами с хрустальным компасом Эвриале оказалась в городе, где склянка больше не гасла. С ней она переходила от здания к зданию, остановившись возле ничем не примечательной средней школы в центре города. Склянка в ее руке вспыхнула так, будто хотела прожечь руку.
Эвриале решила, что тот, кто ей нужен, скорее всего, работает здесь учителем литературы. Но, поинтересовавшись его личностью у завуча школы, она выяснила, что посреди года одна из лучших школ города испытывает трудности как раз с этим предметом, который сейчас кое-как ведут в период учебной практики студентки местного учительского института. Поэтому на следующий день она вошла в эту школу в качестве учительницы русского языка и литературы старших классов.
Вначале она ничем не проявляла себя, решив, что даст проявиться самой спящей сущности Каллиопы. Склянка вспыхивала лишь на уроках одного десятого класса выпускной параллели. Но, находясь в одном помещении с тридцатью галдящими юношами и девушками, она никак не могла понять, кто же из них станет новой Водительницей муз.
Эвриале долго готовилась, решив действовать наверняка, подловив Каллиопу на «предложении, от которого та не сможет отказаться» — на специально предназначенной для нее теме, касавшейся ее исконного ремесла — эпической поэзии. Как она уже поняла, именно этот жанр одинаково не любили как сами школьные учителя литературы, так и их ученики. Чтобы не вызвать излишнего любопытства своей «неестественной склонностью» к единственному жанру, на котором будущая муза могла попасть в расставленную ей ловушку, она не торопилась и долго не задавала сочинений на дом, чему все ученики бурно радовались.
Она уже полюбила этих сообразительных мальчишек, гадая про себя, кто же из них сможет вынести сжигающий изнутри огонь Каллиопы. В человеческой оболочке его несли, как правило, мужчины. Было несколько всполохов и среди женщин, но в этой среде живого и очень чуткого языка, начавшего увядать от идеологического давления «партийности в литературе», поднять такую махину мог только незаурядный мужчина.
И вот однажды она вошла в класс, потратив все воскресенье на проверку сочинения, которое дети два урока писали накануне. Среди предложенных ею на выбор тем стояло намеренно провокационное название, на которое могла откликнуться лишь будущая Каллиопа: «Поэма В.В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин».
Как она и предполагала, большинство ее учеников выбрало свободную тему: «Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне», которую большинство из них «раскрывало» сумбурным пересказом фильмов, снятых по мотивам произведений писателей-фронтовиков, сами книги почти никто из них не читал. Этого поколения уже коснулась стремительно разраставшаяся тьма недоверия книге, порожденная стремлением отравить лживой «партийностью» творческое начало человеческой души.
Проверяя сочинения, Эвриале уже теряла надежду, когда из множества однотипных сочинений взяла в руки до конца исписанную тетрадку, на которой вообще не стояло ни имени, ни буквы класса, ни номера школы. Но в тетрадке было именно то, что она много лет искала, переезжая из города в город, оглядывая поселки и деревни, поднимаясь в темное небо, держа перед собой призрачный огонек заветного флакона. Каждая строчка этой тетрадки уже заявляла свои права на золотую корону Каллиопы, еще до конца не поверившей в свою непобедимую силу.