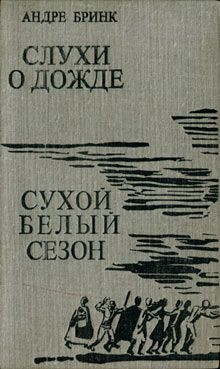Охваченный смятением, раскаянием и страхом (что я скажу родителям? Что будет с моими планами на будущее? Какого черта эта нимфоманка трепалась на всех углах?), я не мог заниматься и не сдал Бернарду курсовую работу. После лекции он попросил меня задержаться.
— Что на вас нашло, Мейнхардт? С вами такого еще не бывало.
— Крайне сожалею, сэр, — К тому времени мы уже были достаточно хорошо знакомы, но соблюдали все формальности. — У меня были важные причины, vis major[4]. — Я ухмыльнулся.
— Звучит интересно. Однако сомневаюсь, что суд примет во внимание подобное заявление.
Ни на что не надеясь, я рассказал ему всю историю, или почти всю, чтобы объяснить, как сильно я влип.
— Вижу-вижу, — сказал он, — Дело скверное. Вот что я вам скажу: если вы сдадите мне завтра курсовую работу, я попробую похлопотать за вас, а там посмотрим, что из этого выйдет.
— Черт возьми, сэр! То есть благодарю вас, сэр!
Когда я уже стоял в дверях, он мягко сказал:
— Послушайте, Мейнхардт, я не намного старше вас. Меня зовут Бернард.
Я мало верил в успех его ходатайства. Однако ему удалось все уладить с головокружительной легкостью, восхитившей меня. Я так никогда и не узнал, о чем он говорил с ректором, но я отделался выговором, а Грета — исключением всего на месяц.
Помимо всего прочего, эта история излечила меня от Греты. Я прервал связь, прежде чем она успела обернуться для меня новыми неприятностями. Зато уверенность в себе и любовная техника, приобретенные благодаря ей, упростили мне последующие приключения.
Мы с Бернардом всегда считали, что тот случай был началом нашей дружбы на всю — или почти на всю — жизнь. Сколь часто он встревал в подобные передряги ради других людей в последующие двадцать лет, я точно не знаю. Отчетливо мне запомнился лишь один весьма характерный случай четыре года назад, во время одного из его периодических наездов к нам. Мы сидели за ужином, примерно в половине десятого, было еще несколько гостей, которые пришли к нам, чтобы повидаться с Бернардом. Внезапно я с раздражением услышал, как захлопали двери черного хода, затем раздались крики, плач, ругань. Тогда у нас еще не было овчарок.
Выйдя во двор, я увидел полицейских. Фургон и легковая машина стояли у входа, ворота были распахнуты. Из помещения для прислуги появились два полицейских, волоча какого-то чернокожего. Одна из наших кухарок с визгом бросилась к ним, чернокожий полицейский ударом сбил ее с ног. Вокруг стояло еще несколько полицейских.
— Добрый вечер, — сказал я, подойдя ближе. — Что тут происходит?
— Вы хозяин? — спросил молодой белый офицер, теребя кобуру на поясе.
— Да.
— Вы знаете этого кафра? — Он подтолкнул ко мне задержанного.
— Нет.
— Мы поймали его у вас в доме.
Ко мне подбежала кухарка и, истерически всхлипывая, схватила за руку:
— Это мой муж, баас. Он просто пришел переспать со мной.
— Ты же знаешь, Дора, что это нарушение закона.
— Он мой муж, баас, — упрямо повторила она. — Нас повенчал морути[5].
— Но это нарушение закона, Дора. Он ведь не работает в нашем районе. — Я вздохнул и повернулся к офицеру. — По-видимому, все так и есть.
— Давайте его в фургон, — приказал офицер.
Когда они втолкнули его в фургон и захлопнули дверцу, я вдруг заметил, что рядом со мной стоит Бернард.
— Погодите-ка минутку, — сказал он, — В том, что вы делаете, нет никакой необходимости, вы не находите?
— Закон есть закон, — возразил лейтенант.
— Но ведь нет нужды соблюдать его таким образом, верно? Человек не совершил никакого преступления. Он даже не оказал сопротивления при аресте. Зачем же так грубо?
— Заткнитесь! — взорвался офицер, снова хватаясь за кобуру. — Если вы не уберетесь отсюда, я арестую вас за вмешательство при аресте.
— И это будет вашей последней возможностью отличиться на служебном поприще, — процедил Бернард. — Полагаю, что я знаю законы лучше вас.
Я чувствовал, что сейчас разразится скандал. Белые полицейские, все не старше двадцати лет, подошли ближе.
— Лейтенант, — поспешно вмешался я, — это мой друг, адвокат. Он просто хочет всем нам помочь.
— Если желаете что-то сообщить, обращайтесь завтра в участок, — пренебрежительно бросил лейтенант, не глядя на нас. — Мы уезжаем.
— Какой участок? — спросил Бернард.
Офицер немного помедлил.
— Рандбург, — сказал он наконец и включил зажигание.
— Там и увидимся, — пообещал Бернард и повернулся ко мне, — Возьмем твою машину, ладно? Дора, вы поедете с нами.
Загудев и заскрежетав колесами, полицейские машины уехали, едва не сбив столб в воротах. Внезапно снова стало тихо. Было слышно, как стрекочут сверчки в саду.
— Какой смысл ехать сейчас, Бернард? — сказал я. — Мы все равно ничего не сможем предпринять до завтра. Так или иначе, но он следовал инструкции.
— Почему бы не попробовать освободить человека сегодня?
Гости высыпали во двор узнать, что произошло. Мужчины стояли впереди, за ними испуганной кучкой жались женщины, кое-кто нацепил очки.
— Не можем же мы взять и исчезнуть с вечеринки, — запротестовал я. — Ведь они пришли ради тебя.
— Они могут и подождать, — Он прошел на кухню, переговорил с Элизой, шутливо чмокнул ее и вернулся ко мне. — Мы не надолго, — крикнул он гостям.
Когда мы подъехали к участку, у входа не было ни машины, ни фургона. Бернард, запомнивший номер машины, вошел в здание, чтобы удостовериться, что она действительно приписана к данному участку. Потом я сидел в «мерседесе», слушая всхлипывания Доры, а он расхаживал по двору, под синим фонарем: десять шагов вправо, десять шагов влево. Прошло полчаса, а машин все еще не было.
— Поехали, — сказал я. — Смотри, как уже поздно.
Но если Бернард что-то задумывал, никакая сила не могла его остановить. Он снова прошел в участок. Как я потом узнал, он настоял на телефонном разговоре с начальником участка и получил разрешение связаться по рации с полицейским фургоном. Когда фургон наконец приехал и задержанного вывели, было ясно, что за это время его основательно избили. Бернард пришел в ярость. А если он действительно взбешен, как той ночью, то владеет собой особенно хорошо. С холодной, ненавязчивой деловитостью он еще раз позвонил домой начальнику участка и описал случившееся. Через пятнадцать минут тот был в участке. Задержанного отпустили под залог, а против лейтенанта и его подчиненных было возбуждено дело. Кроме того, Бернард настоял, чтобы Дориного мужа отвезли к врачу для осмотра и составления медицинского заключения.
Домой мы вернулись за полночь. Гости уже разъехались. Элиза ждала нас, сидя за столом, уставленным пустыми рюмками, переполненными пепельницами и тарелками с объедками. Она ни словом не упрекнула меня и даже подставила щеку для поцелуя, а губы ее растянулись в деланной улыбке. Но я видел, что она вне себя. Не будь тут Бернарда, она закатила бы мне многочасовой скандал. (Впрочем, не будь тут его, для скандала не было бы и повода.)
— Увы, дорогая, — сказал он. — Я страшно виноват перед тобой. Но случаются вещи и поважнее.
Он принес себе из бара коньяк и удобно устроился в большом кресле. Я вспомнил, что ему, по его же словам, надо еще подготовиться к завтрашнему выступлению в суде, но был слишком сердит, чтобы думать об этом.
— К чертям собачьим все твои дела поважнее, — сказал я, наливая себе виски. — Из-за какой-то дурацкой истории ты испортил вечер и себе, и другим.
— Зато добился освобождения этого малого прежде, чем его исколошматили еще раз.
— Думаешь, его стали бы бить, не разозли ты их? Тебе лишь бы настоять на своем. И успокоить свою душеньку.
Он не ответил. Он просто сидел и смотрел на меня, тень улыбки играла на его лице, склоненном над стаканом; мы оба слишком устали, чтобы препираться. Не помню, как события развивались дальше. Кажется, он добился своего. Но чего ради? Я-то сделал из этого практические выводы: в конце месяца рассчитал Дору, устранив тем самым повод для подобных инцидентов, и купил двух овчарок.
* * *
Скверная погода зимой в Лондоне. Идти мне некуда, заниматься нечем, ничто не мешает писать. Даже странно, сколь незначительные события вспоминаются при подобном занятии, — события, о которых никогда не думал, что запомнишь их. Что ж, тем интереснее играть с самим собой в эту игру, циничную и в то же время забавную, — считать свою писанину романом, за который я давно грозился приняться. Кроме того, это позволяет взглянуть на себя как бы со стороны, более объективно. Пока я стараюсь избегать каких-либо оценок и толкований. Значит ли это, что я, подобно Пилату, умываю руки? Возможно. По крайней мере я не питаю на этот счет никаких иллюзий. В свое время мы часто спорили по этому поводу с отцом Элизы. Вообще-то я уважал старика, хотя он бывал порой консервативен и прямолинеен. («В сих стенах, с помощью Кальвина и господа я чувствую себя в безопасности».) Но он наделен был природной неподдельной гуманностью и смирением. Его вполне можно назвать олицетворением любви к ближнему.