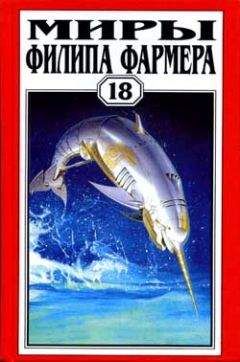Бабушка ей этого так и не простила. Она старалась общаться с мамой нормально, но не смогла. Их взаимная неприязнь была так сильна, что даже я это чувствовала. Мама либо вообще не обращала на свекровь внимания, либо огрызалась, когда та ей что-то говорила. Это могло бы выглядеть как милая семейная перепалка, но когда родителям отца случалось навестить нас на Рождество, ненавистью женщин друг к другу пропитывались и окорок, и глинтвейн.
— Бабушка такая красивая! — угораздило меня сказать однажды, когда они были у нас в гостях и я не смогла сдержать восхищения бабушкиным ярким цветастым платьем.
— Какая разница, что она надела, если у нее воняет изо рта! — отрезала мама.
Сейчас, протирая ее лицо под стеклом и думая о ней и об Ирен, я спрашивала себя, почему общаюсь со второй, зная, каких трудов мне стоило расправиться с первой. Я ведь почти позволила прошлому действительно стать прошлым. Я удивилась, почему, черт побери, до сих пор не выкинула мамину фотографию, и отправилась к мусорному баку. Свен поставил на крышку бутылку пива — в знак благодарности мусорщику за помощь. Я убрала пиво, открыла крышку и швырнула фотографию в контейнер. Услышав звук бьющегося стекла, я испытала глубокое удовлетворение. Закрыла крышку и поставила на нее пиво. Потом вернулась в дом, легла рядом со Свеном и притворилась, что читаю. Как только он начал похрапывать, я встала, спустилась в подвал и взяла бутылку вина. Не из тех, что мне подарили на день рождения, а их тех, что сама купила. Сначала узо, теперь греческое вино… Да простят меня боги, но сегодня мне это просто необходимо. Меня не оставляет ощущение, что дальше все будет только хуже.
30 июня
Я оказалась права. В последующие дни дьявол, похоже, развлекался вовсю. Первый предвестник бури дал знать о себе уже наутро, когда Свен принес мне в постель завтрак: чай, бутерброд и стаканчик портвейна. Очень скоро выяснилось, в чем причина такой щедрости. Проглотив свой бутерброд и запив его чаем, Свен приступил к делу:
— Ева, я разговаривал с Орном. Он придет на днях посмотреть трубы.
— И?.. — спросила я, гадая, что они задумали — Свен и наш местный мастер на все руки.
— Наши трубы не выдержат еще одну зиму, и я устал жить в постоянном страхе.
— И это значит…
— Это значит, что Орн на них посмотрит, и мы подумаем, как их заменить. И… не смотри на меня так, Ева. Не моя вина, что трубы проходят прямо под твоими розами. Ведь они ничем не отличаются от других растений, их спокойно можно пересадить в другое место. Я же не прошу тебя распрощаться с ними навеки, только…
Я сделала глоток портвейна. Меня охватила паника, она выплескивалась через край — на поднос, на постель, на ковер…
— НЕ СМЕЙ трогать мои розы! Слышишь, Свен! Рой где хочешь! Вскрой пол, если это нужно, ломай стены, выставляй окна… Делай, что угодно, но мои розы не трогай, слышишь?!
— Ева, ну что с тобой такое! Ты же всегда такая рассудительная и спокойная. Конечно, розы очень красивы, но с ними ничего не случится, если их пересадить чуть в сторону. А вот если трубы замерзнут и лопнут, мы останемся без воды, и нам придется пить вино вместо чая, не говоря уж о душе…
Не удостоив Свена ответом, я встала, оделась, вышла в сад, погладила шиповник, понюхала розу «Реасе», собрала лепестки в ладонь. Потом вернулась в дом и набрала номер дочери Ирен Сёренсон. К моему удивлению, она взяла трубку. Я передала вчерашний разговор с ее матерью и заметила, что, по-моему, Ирен теряет связь с реальностью и ей не стоит больше жить одной. Я рассказала и о том, как грязно у Ирен, и что ей прописали сильные лекарства, потому что подозревают у нее болезнь Альцгеймера. Описав все как есть, я поинтересовалась, что та думает предпринять.
— Спросите у нее, сколько раз она меня навестила, когда я лежала в больнице, — ответила дочь Ирен.
Мне было известно, что она несколько недель провела в больнице на грани жизни и смерти, и я знала, что Ирен ни разу к ней не пришла. Я уже давно поняла, что Ирен ненавидит все, что связано с болезнью или смертью. Иногда она рассказывает мне о старых друзьях и родственниках, которые попали в дом престарелых или лежат в больнице, но я знаю, что ей и в голову не придет навестить их или хотя бы послать цветы или открытку. Я понимаю, что, избегая общаться с больными и умирающими, она борется с собственным страхом смерти.
— С чего это мне переезжать в какой-то дом, где живут одни старики? — как-то раз обмолвилась она, тем самым подчеркивая, что себя к таковым не причисляет.
Я прекрасно понимала дочь Ирен. Отлично помню, как меня в четырнадцать лет доставили на «скорой» в больницу со страшной головной болью: я поскользнулась на тротуаре и упала. Врачи сделали все, что могли, но у меня было сотрясение мозга, и я ужасно страдала. Потом к сотрясению добавились воспаление и жар. Несколько дней я лежала в бреду, изредка приходя в сознание и видя у своей койки незнакомую женщину, которая, как потом выяснилось, была моей соседкой по палате. Она все это время просидела рядом, и, стоило мне открыть глаза, радовалась: «Смотрите, она приходит в себя! Она очнулась!».
В конце концов, мне стало лучше, но я провалялась в постели еще несколько недель. Папа ехал со мной в машине скорой помощи, я помню, как держала его за руку, помню его запах, помню, как боялась, что рассердится мама, которой придется ехать в больницу. Но когда я очнулась, мамы со мной не было. Только папа навещал меня каждый день, спрашивал, как я себя чувствую и не надо ли мне чего-нибудь. Это ему я шептала, что мне нужно свежее нижнее белье и учебники, и это его заботливые руки расчесывали мне волосы. Это папе врачи сообщили, что с головой у меня все в порядке и что они не понимают, чем вызвано такое сильное воспаление.
— Твой папа будет очень рад, когда ты вернешься домой, — сказала мне соседка по палате, когда меня выписывали. Мама выразила свои чувства по поводу моего выздоровления тем, что приготовила праздничный обед: рулетики с мясом, консервированные фрукты со взбитыми сливками и вино, большую часть которого выпила сама, заявив, что у нее редко бывает повод что-то отпраздновать.
Бустер, конечно, заслужил наказание, но он искупал чужую вину. Как и Карин Тулин. В случае с моей болезнью, когда никто не мог объяснить, что вызвало столь сильное воспаление, мне порой кажется, что это я сама себя наказала. Я помню, что боли в голове начались у меня через неделю после того, как мы с мамой серьезно поссорились.
Мои родители все чаще устраивали вечеринки, теперь они уходили из дома не только по пятницам, но и по субботам. А еще приглашали друзей к нам домой. Я чувствовала, что папу бесят эти вечеринки с вином, танцами и пустыми разговорами. Возможно, он мирился с ними, пытаясь сохранить иллюзию нормального брака. А может, хотел контролировать маму, потому что ей ничего не стоило отправиться на вечеринку или в бар одной и потом не вернуться домой ночевать.
В тот вечер к нам должны были прийти мамины друзья, и она ушла с работы пораньше, чтобы успеть приготовить угощение. По какой-то причине папа не купил того, что просила мама, и с каждой минутой она раздражалась все больше. Я прекрасно понимала, почему: мама боялась, что не успеет нарядиться и накраситься к приходу гостей. С горящими от ярости глазами она подошла ко мне и крикнула, чтобы я бросила то, чем занималась (а я накрывала на стол), и бегом бежала в магазин за недостающими продуктами и закусками.
— И еще принеси букет цветов! — крикнула мама мне вслед.
Я купила все, что просили, кроме цветов, про которые вспомнила, только подходя к дому. Поначалу мама этого не заметила. Папа получил приказ заниматься приготовлением ужина, я продолжила накрывать на стол.
— Ева, какое украшение мне выбрать? — внезапно раздалось из спальни, и мне пришлось все бросить и бежать к маме, чтобы помочь ей выбрать ожерелье с жемчужинами и потом застегивать его на шее, чтобы она не испортила свежий лак на ногтях. Она выглядела весьма эффектно в черном платье с открытыми плечами и шелковой лентой в волосах, но злилась, потому что ей не удалось замаскировать прыщик на лице, а на чулках, которые она собиралась надеть, спустилась петля.
— Теперь иди, помоги отцу. И надень что-нибудь приличное! — фыркнула она, отсылая меня прочь.
Я едва успела переодеться, как в дверь позвонили, и гости заполнили прихожую, наступая друг другу на ноги.
В четырнадцать лет я была достаточно взрослой, чтобы демонстрировать меня гостям, но недостаточно, чтобы сидеть с ними за столом, что меня безмерно радовало. Я положила себе на тарелку разной вкуснятины и ела на кровати у себя комнате, поставив пластинку на старенький граммофон. Я слушала то же, что мои школьные приятели, — заезженную пластинку Элвиса, набирающих популярность «Битлз», но больше всего мне нравился джаз. Мама раздобыла в Лондоне пластинку с записями американской певицы Нэнси Уилсон, и ее голос под аккомпанемент грустного саксофона наполнял меня ощущениями, которые я еще не умела выразить словами.