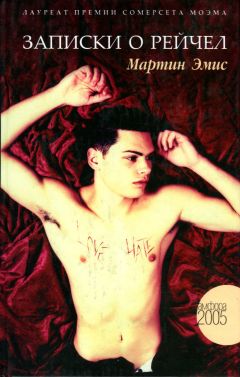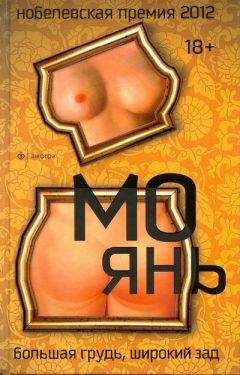Игральный автомат рыгнул, завибрировал и под одобрительное улюлюканье молочников начал, позвякивая, выплевывать из себя жетоны.
— Это трудно… — начала Рейчел.
— Что? Я не слышу.
Она закусила губу и помотала головой.
Машина кашлянула. Молочники загоготали.
Я похлопал Рейчел по колену.
— Ладно. Ничего страшного, — сказал я, размякнув, вдавленный в свое сиденье. В голове не было ни единой мысли, как у младенца. Она могла бы уйти, и я бы даже пальцем не шевельнул, даже не заметил.
— Пойдем отсюда.
Это сказала Рейчел.
Мы стояли посреди тротуара; мои руки лежали у Рейчел на плечах, ее — играли с пуговицей моей куртки. Я видел ее прямой пробор, и от нее приятно пахло, как в парикмахерской.
Я взял ее за подбородок и заставил посмотреть на меня.
— Ты плачешь?
Она снова уронила голову.
— Это не из-за тебя.
Я держал ее довольно крепко и вглядывался в витрину на той стороне улицы, пытаясь разглядеть свое отражение. Я выглядел веселее, чем Рейчел.
— Послушай, — сказал я. — Ты слушаешь?
Она кивнула и всхлипнула.
— Мне все равно, что теперь случится. Честно. Я могу ждать столько, сколько понадобится. Но помни, что я постоянно думаю о тебе. И не беспокойся. — Я погладил ее по волосам. — Как ты доберешься домой?
— На такси.
— Такси!
Это я заорал не на нее, а окликнул такси, которое остановилось на светофоре. Я открыл дверь, и Рейчел сообщила шоферу адрес. Она обернулась и, несомненно, сказала бы мне «пока», если бы я не остановил ее властным прощальным взглядом. Возможно, Рейчел продолжала смотреть на меня через тонированное стекло, так что я стоял на тротуаре и махал, делая зловещие пассы руками, до тех пор, пока машина не скрылась из виду.
Я вернулся в бар, допил шанди, прикончил еще две кружки «ячменного вина» и сыграл в дротики с тремя очень серьезными автомеханиками. Затем я шел по Фулем-роуд до метро «Южный Кенсингтон», несколько раз останавливаясь, чтобы посмотреть на свое отражение в витрине или просто подумать.
Просматривая папку, озаглавленную «Всякая всячина», я только что натолкнулся на две довольно любопытные заметки, сшитые скобкой, что уже само по себе весьма странно, так как я всегда стараюсь не ограничивать движение материала Первая датирована моим восемнадцатым днем рождения. Она гласит:
Что касается туалетного воспитания. Помню, когда мне было 8 (?), я спросил у матери, как должны вести себя какашки. Она сказала, что в идеале какашки должны иметь коричневый цвет и плавать. Я посмотрел — черны как ночь и камнем идут на дно. Больше не смотрел ни разу. Отсюда, вероятно, мое анальное чувство юмора?
Не понимаю почему, я всегда думал, что анальное чувство юмора очень распространено в моей возрастной группе, хотя я мог и ошибаться. Это же очевидно: приятные вещи скучны, а мерзкие — забавны. Чем более мерзко, тем забавней.
А вот вторая заметка. Датирована первым августа, год не указан, так что это могло быть написано во время летних каникул в Лондоне.
Поведал Джефу, как сильно я хочу трахнуть Взрослую Женщину. Он сказал, что не понимает меня, поскольку я ему уже все уши прожужжал о том, какие они страшные. Он спросил, с чего я вообще решил, что мне понравится, если я ни разу еще их не трахал и даже не видел ни одной голой. Мне нечего было ответить.
Интересно. Перенос отвращения к собственному телу на другой объект? Нет, слишком скучно. Нелюбовь к женщинам? Вряд ли, поскольку я считаю, что взрослые мужчины выглядят столь же устрашающе, если не хуже. Нежелание мириться с собственным тщеславием плюс литературный интерес к физическому гротеску? Возможно. Чистая риторика? Да.
Я подхожу к креслу и устраиваюсь в нем, ноги на одном подлокотнике, голова — на другом. Чувствую себя как в люльке: по-тинейджерски. Ногтями разгибаю и вытаскиваю скобку и соединяю листки канцелярской скрепкой. Не думаю, что они должны быть настолько близки.
Звонит телефон.
— Алло, позовите пожалуйста Чарльза Хайвэя.
— Это я. Привет, Глория, — сказал я, приспосабливая свой голос к модуляциям кокни. — Как дела?
— Чарльз…
— Что?
— Я знаю, ты меня убьешь, если я тебе скажу.
— Что?
— Если скажу.
— Скажешь что?
— Я не могу.
— Давай, я не рассержусь. Обещаю.
— Это ужасно… Утром я получила это извещение… По почте. Это такие розовые листочки. В них говорится, что у меня инфекция и что я должна сказать всем, ну, ты понимаешь, с кем я…
Я схватился за перила.
— Что за инфекция?
— Три хама…
— Что? Скажи по буквам.
— Как?
— Скажи медленно и по буквам.
— Т-р-и-х-о-м-о-н-а-д-а. Но это не очень серьезно. Я была в клинике, и доктор дал мне таблетки. Принимаешь их пять дней, и все, ты в порядке. Чарльз?
— Я здесь.
— Ты очень на меня сердишься?
Дома никого не было, так что я мог говорить громко.
— Так-так, трихомонада…
Что же делать? Что же делать? Что же делать? Просто пойти к доктору, выложить хозяйство на стол, сказать, что у меня там завелась эта штучка-дрючка, он даст мне таблеток, я их приму, и на этом все кончится?
— Ты на меня сердишься, да?
Я вздохнул.
— Нет. Не на тебя. Ты не виновата.
— О Чарльз!
— Кто это был, кстати сказать? Какие-нибудь догадки, соображения?
— Да. Терри. Я больше ни с кем не была, и доктор сказал, что это не мог быть ты, потому что…
— Инкубационный период, я знаю. Понятно. И когда тебе снова можно будет заниматься сексом?
— Я не спрашивала. Думаю, уже скоро.
— А почему у меня нет никаких симптомов?
— У мужчин не бывает. Только у женщин.
— И какие?
— Ну, зуд, жжение, когда хожу в туалет.
— Мм, сочувствую.
— Прости, Чарльз.
— Не беспокойся. Увидимся, наверное, когда все это закончится.
Таким вот образом Природа призывает людей к моногамии.
От той девчонки с грязным животом — мандавошки, муравейник в паху Способ лечения: пять дней ты бегаешь с яйцами вроде сверхновой звезды. Втираешь молочно-белую мазь и ждешь, кусая губы, стараясь перебить запах сигаретным дымом. Через пять дней, в уборной, пытаешься отскрести мазь. Не помогло. Повторяешь процедуру. Нечеловеческие страдания вновь застигают тебя врасплох. Наконец, через десять дней, все заканчивается.
От Пепиты Манехъян — триппер. Это было девять месяцев назад. Пепита была обитательницей одного из многочисленных оксфордских колледжей, готовящих секретарш. Эти колледжи обеспечивали город должным количеством женщин определенного сорта. Она, конечно, не была особой красоткой, иначе имела бы возможность выбирать среди студентов и не нуждалась в этих угреватых школьниках. Я поимел ее во время какой-то вечеринки в туалете (довольно просторном помещении с ковриком, полотенцами и изобилием туалетной бумаги). У нас неплохо получилось, несмотря даже на то, что в самый критический момент Пеппи трижды ударилась головой об унитаз, придав этому судорожному эпизоду еще большую нелепость.
В ближайшую пятницу или около того я проснулся и обнаружил, что кто-то выжал целый тюбик гноя на мои пижамные брюки. Ядовитый эротический сон? В уборной также выяснилось, что я мочусь раскаленной лавой. Со мной явно что-то происходило. Я соорудил для головки члена что-то вроде насадки из ватных тампонов и эластичного бинта и стал пользоваться узким нижним туалетом, где, упершись ладонями в стены, как Самсон в колонны филистимского храма, выдавливал из себя с четверть литра жгучей мочи, гноя и крови.
Затем я стал думать, что же мне делать.
Само собой, я уже никогда не смогу спать с женщиной, но (бог свидетель) невелика потеря. Или, может быть, есть еще надежда? Кроме всего прочего, Пепита была иноземного происхождения, а это значило, что за лечением мне наверняка придется отправиться на Мадагаскар или еще куда-нибудь. «Ага, конго-триппер, — процедит сквозь зубы врач. — Колдун доктор Умбуту Кабуку — вот кто тебе нужен. Он единственный, кто сможет тебе помочь. После Замбези сворачиваешь налево, второе племя, третья хижина справа. Поднеси ему эти цветные бусы…»
Все выходные я проплакал. Я бился головой о дверь уборной, думал о способах самоубийства, убегал в лес и вопил там во всю глотку, рассматривал возможность отрезания своего сучка бритвой, спал на терновом ложе из собственных нервов. Я даже подумывал, не рассказать ли моему отцу; я знал, что его это не особенно взволнует, но мысль о его рациональном сочувствии вызывала во мне непреодолимое отвращение.
В понедельник, после шести часов ни кем не разделенных страданий в школе, я пошел с Джеффри выпить кофе. Поговорив о девушках, презервативах и промискуитете, я наконец добрался до главного — разумеется, чисто гипотетически. Джеффри считает, что знает все о подобных вещах, потому что его отец — врач. Когда я спросил о способах лечения, его ответ был безжалостен: