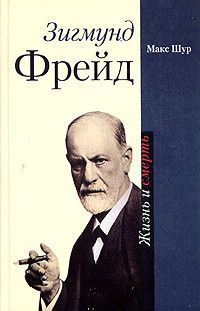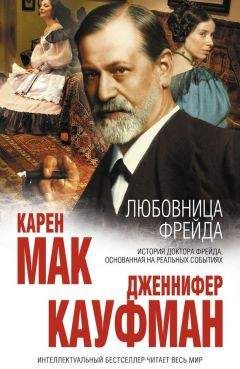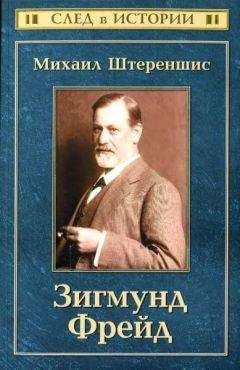Ознакомительная версия.
После ухода моего брата его комната пустовала. Иногда я заходила туда, смотрела на опустевшие полки, на которых некогда лежали книги вперемежку с одеждой. Если мать видела, как я стою в комнате, принадлежавшей Зигмунду, или сижу на его кровати, она ухмылялась и говорила, что Зигмунд был бы счастлив для начала иметь хотя бы такую маленькую комнатку для него и Марты.
С появлением Марты Бернайс исчез целый мир, исчезла моя близость с братом, исчез и наш мир фантазий, не успев обрести телесность, исчезла Венеция, в ней исчезли и он, и я. Иногда, вспоминая, как он здоровался со мной до появления Марты Бернайс — проводил кончиком указательного пальца сначала по моему лбу, затем по носу, по губам, — я поднимала указательный палец, словно показывала на небо, а потом скользила им по лбу, по носу, по губам.
Ощущение отверженности, осознание того, что я никому, даже самой себе, не нужна — кроме отца, который был при смерти, — сделали меня необычайно ранимой. Я могла расплакаться без причины, когда мы с родителями ели или гуляли в Аугартене. Мать снова стала повторять те слова, которые не произносила уже давно: «Лучше бы я тебя не рожала». Она чувствовала мою уязвимость и топила в ней свою ненависть. Ненависть нельзя понять до конца, нельзя познать и ее источник, так же как, по словам Сары, нельзя определить счастье, его просто чувствуешь. И может быть, ненависть, как грех и счастье, существует только в глазах того, кто ее примечает, и того, кто чувствует ее наперекор себе, — а так, это всего лишь поступки, обычные поступки и ничего больше, обычные поступки, которые, однако, отравляют жизнь тому, на кого направлена ненависть.
Иногда я пыталась угадать причину ненависти матери. Возможно, я оказалась всего лишь случайно выбранной жертвой, потому что была самой слабой из всех дочерей, словно яма, в которую можно было вылить собственное страдание. Я думала, что через меня она ненавидит моего отца, своего пожилого мужа, который был старше ее отца. Возможно, ненавистью ко мне она гасила желание иметь мужа своего возраста еще прежде, чем оно вспыхнуло бы. А возможно, из-за моей привязанности к брату ненавидела меня, потому что была бессильна ненавидеть ту, из-за которой ее золотой Зигмунд ушел от нас. Он начинал новую жизнь, создавал новый мир, где мы могли быть только случайными прохожими, в нашем мире он хотел быть только гостем, а моя мать, если и ненавидела Марту Бернайс, ничего не могла ей сделать, яд никогда не достиг бы возлюбленной Зигмунда и остался бы внутри сердца матери, и поэтому она выбрала меня.
Так мне казалось, возможно, я ошибалась, пытаясь объяснить мучительность собственного существования. Уже с первым проблеском сознания у ребенка появляется тягостное ощущение времени, будто смутное предчувствие того, что существование состоит из песчинок, разметанных ветром, и лишь ощущение себя, собственного Я, сохраняет нас целостными до тех пор, пока не унесется последняя песчинка — эта последняя частичка жизни, с исчезновением которой погаснет и Я, а после нас останется только ветер времени. Иногда ветер дует так сильно, что уносит не только песчинки, но и отрывает куски от самого Я, и это Я чувствует себя беспомощным. Ему кажется, что ветер унес и его вместе с песком, погасил его еще до того, как были развеяны все песчинки, данные ему до смерти, и тогда Я ищет другое Я, другие Я, с которыми движется вместе, пока вокруг беснуется ветер времени. Другие Я необходимы не только для того, чтобы выжить в материи, но и чтобы сохранить самое существенное этого Я. Так Я не одиноко, несмотря на то что живет обособленно, Я не оторвано от мира, его форма состоит из отношений с другими. Звезды влияют друг на друга: движение, вспышки, угасание одной действуют на окружающие; они питают и поедают одна другую. Примерно так же и с людьми: взглядом, словом, жестом питают и поедают друг друга; подкрепляют и разрушают; дробят Я другого, защищают его от дробления, соединяют раздробленные кусочки и помогают Я другого снова собрать себя. Иногда они выполняют все эти противоречивые действия по отношению к Я другого: питают его и поедают; подкрепляют и разрушают, защищают и дробят, помогают собирать раздробленные кусочки.
Так моя мать взглядом, словом, жестом отрывала от меня частичку — частичку, которой мне постоянно недоставало, частичку, которую я постоянно искала. Всю свою жизнь я чувствовала, что мне чего-то недостает, как Венере Милосской недостает рук. Мне чего-то недоставало не снаружи, а внутри, будто моей душе недоставало рук, и это отсутствие, этот недостаток, это ощущение пустоты делали меня беспомощной. Всегда чувствовала, как чей-то взгляд прожигает мою жизнь, и в то же время искала существо, способное залатать разломы моего Я.
А потом мои сестры вернулись в Вену, вернулись с историями о Париже, со своими воспоминаниями, к которым постоянно обращались. Они вернулись другими, стали прекрасными молодыми женщинами изысканного поведения, их кокетливая речь насытилась французскими выражениями, их лица больше не отражали смущение и покорность, только легкую скромность и радость жизни. Я восхищалась сестрами, их жестами и их беседами. Я всегда сидела за ними, а не рядом и смотрела на них, слушала их и радовалась за них. И кроме этой радости было еще и другое чувство — я понимала, как далека от них, настолько далека, насколько была близка с матерью.
Мама часто собирала моих сестер, находила причину не звать меня, и они долго сидели на кухне, а я только тихонько выходила в коридор, и возвращалась в комнату, и в течение этой краткой близости к ним, к двери, разделявшей нас, успевала услышать частичку разговора, происходившего обычно между матерями и дочерьми: о том, что нужно делать, чтобы быть хорошей дочерью, о том, почему вступают в брак, об обязанностях жен по отношению к своим мужьям и детям. Я оставалась в стороне от их мира и разговоров, в которых они представали женами и матерями. Я подслушивала, как они смотрят в будущее, а сама заглядывала в прошлое, и мне казалось, что благодаря браку и материнству, к которым сестры готовились, они побеждали время. С ними была связана целая череда матерей вплоть до первой крови; а я чувствовала, насколько далеко нахожусь от этих матерей, в которых кровь плодилась и крепла.
Потребность, присущая всем родителям, — чтобы их дети переняли и сохранили то, что они сами когда-то переняли у своих родителей и сохранили, — стала причиной враждебности матери Марты Бернайс к Зигмунду. У Эмелины Бернайс была и еще одна причина ненавидеть его. Она обещала своему супругу, когда тот лежал на смертном одре, что своих детей — дочерей Марту и Мину и сына Эли — воспитает в еврейской культуре, поэтому ей было тяжело мириться с насмешками Зигмунда над молитвами и обычаями и с упорностью, с которой тот уверял Марту, что не стоит следовать ритуалам и суббота — такой же день, как и все остальные. Пытаясь найти способ разлучить Марту с заядлым атеистом, Эмелина решила вместе с сыном и дочерьми вернуться в Вандсбег под Гамбургом, откуда они приехали в Вену десять лет назад. Слезы дочери не повлияли на ее решение, и одним зимним днем семья Бернайс отбыла на север. Мой брат был опечален и обеспокоен, хотя и верил в то, что поколебать любовь его избранницы не может ничто.
С тех пор как Марта покинула город, я каждый день посещала Венскую больницу. В хорошую погоду мы с братом выходили прогуляться, а если было дождливо или холодно, оставались в его комнате, где из мебели были только стул, стол и кровать. Когда начинали ощущать себя пленниками в тесноте помещения, мы вставали и расхаживали по коридорам больницы, из одного отделения в другое, и разговаривали как раньше, в библиотеке, во время перерывов между чтением. Мы обсуждали те же темы, только относились к ним по-другому — теперь у нас было больше жизненного опыта и меньше восторга.
Однажды, когда мы обсуждали разницу в представлении о трагическом в древние времена и сейчас, брат привел меня в одно из отделений больницы и сказал, что оно секретное и работает незаконно. По пути к отделению он поведал мне о том, на что способна беременная женщина, если она не состоит в браке и если тот, чьего ребенка она носит, не хочет брать ее в жены. Я знала, что родители чаще всего выгоняли несчастных обесчещенных молодых женщин из дома и они умирали от голода, холода или болезни, даже не успев родить; знала, что некоторые из них, пережив роды, оставляли младенцев в первом попавшемся приюте, и нанимались на тяжелую работу, которая также сокращала им жизнь; знала, что были и такие, кто, не имея достаточно сил пережить позор, убивали себя, так и не сообщив близким о беременности; знала, что некоторые ходили к бабкам, которые поили их горьким отваром, а потом случался выкидыш, иногда и сами они умирали от отравления.
Представители же высших слоев общества благодаря власти денег могли уклониться от закона, запрещавшего аборты. В Венской больнице некоторые хирурги посвящали свое рабочее время деятельности, которая хоть и была запрещена законом, но считалась позволительной в отношении избранных — там делали аборты дочерям и любовницам богачей. Перед входом в секретное отделение я узнала, что брат и сам научился это делать. Он начал подробно описывать весь процесс, а я, представив, как металл подцепляет плод, почувствовала себя плохо и меня вырвало. Пока я приходила в себя, сидя на скамье в коридоре, брат сказал, что во дворце, принадлежащем одному из таких богачей, чьей любовнице делали операцию в Венской больнице, были выставлены полотна с изображением Иисуса и Божьей Матери. Он, банкир фон Н., платил музеям и частным коллекционерам всего мира, чтобы они на месяц передавали ему сотни картин Иисуса и Божьей Матери, которые он хотел показать жителям Вены. Хотя выставка уже закончилась, Зигмунд надеялся, что во дворце еще осталось какое-нибудь произведение и мы сможем его увидеть.
Ознакомительная версия.