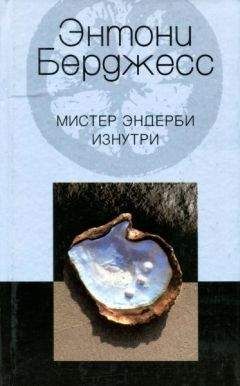Так.
Проклятье. Оказывается, не все последовательно разделено на четыре. Наплевать. И наверно, спагетти должны почернеть. Ходят слухи о модных ресторанах, где всевозможные вещи специально жгут на глазах у хладнокровно расположившихся за столом хорошо одетых людей. Он вернулся к электрическому камину и к чтению очередного номера «Фема». Поглазев остановившимся взором на рекламу супа с изображением чашки холодной крови, на рекламу яиц, где мертвенно бледный желток свешивался с подпиравшего его куска рыбы на сковородке, готовый упасть и стать светло-желтым, принялся за рассказ под названием «Ты мне не мила». Про стюардессу, влюбленную в капитана своего самолета, — тема для Эндерби новая. Он охнул на давно минувшие двадцать минут готовки по Джиллиан Фробишер, с икотой вскочил, вытащил из духовки Сюрприз из Спагетти с Сыром. Название неподобающим не назовешь. Сел, смакуя смешанные оттенки горелой муки и зверски кричащего чеснока, горячего, громкого, как взрыв ацетилена, при общем тоне оттенков утомительно тепловатом. Не совсем то ожидалось; ну ладно, Джиллиан Фробишер, наверно, знает, что делает. Эндерби покорно ел, часто глотая холодную воду. Следует изучить вкусы своих перспективных читателей.
Эндерби среди ночи проснулся, с сержантской резкостью выскочив из непонятного сна про кочергу. Боль была жуткая, хоть опасности не ощущалось. Выскакивал с вполне ясной головой; даже помнил имя проклятой женщины. Джиллиан Фробишер. В одном из Кулинарных Приложений была ее фотография: энергичная симпатичная девушка-еврейка с невозможно чистой сковородкой. Если он когда-нибудь до нее доберется, поклялся Эндерби, то запачкает эту самую сковородку, точно. Воспользуется случаем.
Сода разрушила боль, бросив ее осколки на ветры. Эндерби сел в гостиной, включил электрокамин. Три часа десять минут, говорили часы. Жуткое время. Наверху шумели, женский голос кричал, как бы сквозь муслиновый фильтр:
— Катись, слышишь? Выметайся, свинья.
Потом ропот мужского голоса, ниточные стежки тяжелых ботинок. Видно, Джек вернулся. Вскоре женская ругань ослабла, зазвучала с занимательной артикуляцией, как бы углом рта, короткими взрывами. Потом загромыхали пружины. Эндерби взял с дивана контракт, размышляя, подписывать или нет. Еженедельное изготовленье пакета рифмованных клише, пустая сентенциозная болтовня о далеких-предалеких звездах, о пухлых младенческих ручках, обнявших мамулю за шею; делай добро бедным, — не проституция ли? Стихи, написанные им Тельме от имени Арри, каковы б они ни были, — нет. Если не откровенно чувственные, то мягко ироничные: нечего стыдиться. Но разве предложение миссис Бейнбридж не демон, увлекающий прочь от истинного искусства звоном гиней, которые в любом случае целиком уйдут к миссис Мелдрам? Эндерби пошел в ванную посмотреть на сваленные в ванну многолетние труды. На протяжении последних полутора десятилетий приходилось перебираться из города в город, с квартиры на квартиру, но здесь он думал осесть. Нехорошо менять мастерскую посреди главного произведения. Под незаметным влиянием нового места меняется настроение, прерывается непрерывность. И только подумать об упаковке вот этой вот ванны в чемоданы, — с мышами, и с хлебными крошками, и со всем прочим. Вещи теряются, испытываешь искушение их выбросить. Но Эндерби, стоя босыми ногами, старательно размышлял, раздумывал, может быть, надо пойти на жертву. Съехать вверх-вниз по побережью подальше от миссис Мелдрам и — от гораздо более опасной личности, от вдовы, возлегающей средь луговой травы, — миссис Бейнбридж, хладнокровно элегантной, самоуверенной обожательницы его стихов.
В определенной мере он видел, что рационализирует свою боязнь связи с женщиной, вероятность начала внизу завершавшегося сейчас наверху. А еще опасенье — нередко ему досаждавшее, — что желание уклониться от всяческих связей отрицательно скажется на работе. Любовь к женщине всегда, по традиции, играла большую роль в жизни поэтов. Посмотрим, к примеру, на Гете, которому перед новым лирическим произведением обязательно требовалось новое любовное приключение. Эндерби, если германской культуре предстояло хоть как-нибудь повлиять на его эволюцию, выбрал влияние гораздо более строгой личности — Шопенгауэра. И Шпенглер, с его обещанием пройтись по вечерним полям, мог кое-что ему сказать. Перед сочинением стихов о сексе, о других людях он всегда обращался к обоим философам. Вспомнился типичный вечер военного времени, затемнение в гарнизонном городке, мозолистые руки, хватавшие в темноте хихикавшие тела.
Сатиры, нимфы вскачь летят,
Фавны в клубах пыли,
Срывает покрывало дня
С брюха грязный Вилли.
Вот прожектор рылом вертит,
Словно скальпель в ране,
Ждет, когда Wille начертит
Vorstellungen[43] на экране.
Шлюх залило серебром,
Все их прибамбаски
Обретают в свете том
Строгость, прелесть, краски.
Глянь! Взметаются ракеты!
Туго был экран натянут.
Но трагической параболой
Палки снова вянут.
Неромантическое отношение к сексу. Любовь, сказал, кажется, Шопенгауэр, один из бесконечных киносеансов — Vorstellungen, — устроенных грязным Вилли, желанием, — киномехаником и одновременно менеджером, когда вялые тела жвачных смехунчиков проецируются на тугие сияющие экраны, представляясь некой реальностью, ценностью. Но дефляция, тяготенье к земле после соития, устрашают; видишь обесценившиеся слова желания — так скоро после произнесения, — такими, каковы они есть. Случайные образы онанизма не доставляют страданий, не лгут.
Эндерби вернулся в гостиную. Снова началась изжога, подобно предродовым схваткам. В стакане еще оставалось полно растворенной соды, поэтому не прошло полминуты, как ему удалось гулко буркнуть:
Грерррбругаррргаууууупфффф.
Последовал немедленный ответ сверху: трижды стукнул предостерегавший башмак. Эндерби кротко глянул в потолок, как бы на ворчавшего Бога. Пора переезжать. Услыхал что-то вроде:
— Заткнись, Эндерби.
Потом женский голос сказал:
— Оставь его в покое. Он тут ничего поделать не может. — Дальше началась очередь неразборчивых слов, закончившись криком Джека:
— Ах, вот как, да? А чья была идея? Ах ты, лживая сучка, скажешь, нет?
Ясно, уныние после соития. Эндерби уныло качнул головой и опять лег в постель. Он за неделю предупредит миссис Мелдрам и не подпишет контракт с миссис Бейнбридж. Пускай миссис Мелдрам покроет убытки за счет бесцветного улыбчивого молодого мужчины, который моется в ванне; если в «Феме» не появится еженедельное стихотворение Эндерби, вряд ли его читатели с крепким желудком расстроятся.
Все решилось. Утро принесло письмо от Весты Бейнбридж:
«Дорогой мистер Эндерби!
Ну, похоже, хороших вы дров наломали во время визита в Лондон. Мне сейчас только в руки попалась вечерняя газета за тот достопамятный день, которая, хоть и кратко, довольно ясно сообщает, что вы решили соригинальничать и поссориться с неким рыцарственным покровителем вашего искусства. Признаюсь, в определенном смысле я восхищена вашим независимым поведением, хотя, бог знает, может ли хоть один современный поэт позволить себе подобную байроническую роскошь. Сэр Джордж, как я слышала, сильно уязвлен и рассержен. Что это на вас нашло? Просто не пойму, впрочем, я ведь самая обыкновенная личность без особых претензий на интеллект, никогда самонадеянно не сочту себя способной проникнуть в мысли поэта. Факт остается фактом, и, смею сказать, о нем вы очень скоро услышите от своего собственного издателя: ваше имя отныне весьма дурно пахнет для „Хороших Книг Гудбая“, поэтому ходите теперь, да оглядывайтесь.
Полагаю, в таких обстоятельствах было бы лучше печатать ваши еженедельные излияния под псевдонимом. При этом мы также получим возможность украсить публикацию снимком какого-нибудь длинноволосого натурщика с пером в руке, с воздетым к небесам мечтательным взором; вы понимаете, что я имею в виду: Поэта, каким его видит каждая домохозяйка. Можете предложить псевдоним? Подпишите контракт и пришлите. Я действительно с удовольствием пила с вами чай.
Ваша Веста Бейнбридж».
Эндерби в ярости трясся, комкая писчую бумагу хорошего качества. Швырнул письмо в унитаз, дернул цепочку, но бумага была слишком плотной, чтоб смыться. Пришлось ее вытаскивать, мокрую, нести на кухню, бросать в старый картонный мусорный ящик с банками из-под сгущенного молока, рыбьими костями, картофельными очистками, чайными листьями. Через час мрачных раздумий, попыток продолжить работу он почувствовал побуждение перечитать письмо, что и сделал, сплошь облепленное чайными листьями. Хороших дров наломал в Лондоне в достопамятный день хоть и кратко байроническая роскошь независимое поведение каким его видит каждая домохозяйка Веста Бейнбридж. Эндерби стоял, хмурился, читал в крошечной прихожей, щурился на слова, потому что там было темно. Вдруг раздался двойной стук в дверь, точно горилла в грудь себя била, и он с удивлением поднял глаза.