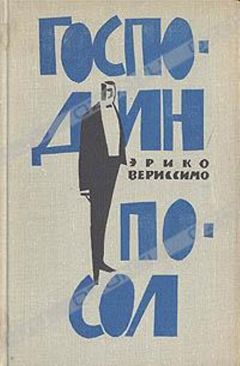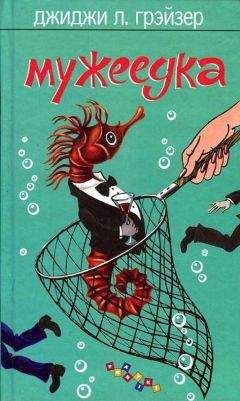— Мне что-то не по себе, дорогая, — прошептала Нинфа.
— Почему?
— Дела в Сакраменто идут не блестяще. Приближаются выборы, а по конституции генералиссимус не может больше выставлять свою кандидатуру.
— Я не разбираюсь в политике, донья Нинфа.
— Речь не о политике, девочка, а о нашей судьбе. Если на выборах одержит верх оппозиция, нам дадут коленкой под зад.
Нинфа заметила, что Росалия покраснела, и подумала: стесняется слов, а наставлять мужу рога ей не стыдно.
Когда официантка принесла десерт (яблочный пирог для генеральши и смородиновое желе для Росалии), разговор принял оборот, которого Росалия опасалась больше всего.
— Давай, дорогая, выложим карты на стол, — сказала Нинфа, вызывающе уставившись на собеседницу. — Откровенность будет только на пользу. Я все знаю о тебе и о доне Габриэле Элиодоро.
— Что все? — Росалия инстинктивно заняла оборону.
— Не стоит запираться. Это секрет Полишинеля. Еще в Серро-Эрмосо все знали об этом, за исключением, конечно, жены дона Габриэля Элиодоро. Донья Франсискита привыкла витать в облаках.
Губы Росалии задрожали, как и кусочек розового желе, который она подносила ко рту.
— Не расстраивайся, — успокоила ее Нинфа. — Я тебя не осуждаю. На твоем месте я поступила бы точно так же. Дон Габриэль Элиодоро настоящий мужчина, не то что твой муж.
Опустив глаза, Росалия кромсала желе на мелкие кусочки, которые потом размяла и оставила.
— Ну, смелей! — подбодрила ее Нинфа. — Подруги мы или нет? Вчера вечером Панчо позвонил к нам и спросил, у нас ли ты. Уго, старая обезьяна, понял все и наврал, будто мы с тобой пошли в кино. Ты можешь рассчитывать на нас, дурочка. Мы все на стороне дона Габриэля Элиодоро и на твоей.
Росалия в замешательстве разглядывала розовую кашицу у себя на тарелочке.
— Послушай, милочка, тебе еще не раз понадобится это… как его… Ну, как это называется, когда в детективных фильмах кто-нибудь хочет доказать, что он был в другом месте, когда кого-то убили? Алибили?
— Алиби, — прошептала Росалия.
— Вот, вот. Тебе оно еще понадобится. Ты можешь спокойно обедать с послом и все прочее… А я звоню Панчо и говорю, что у нас с тобой свои дела… Ты же просишь дона Габриэля послать ко мне посольскую машину. С Альдо, разумеется. Можем начать сегодня… Ты останешься со своим возлюбленным, а я прогуляюсь… в Арлингтон, Маунт-Вернон, Бетесду… — Нинфа подмигнула. — Получится отличное алиби.
— Для нас обеих, не так ли? — осмелела Росалия.
Нинфа усмехнулась.
— Конечно. Ты умная девочка. Нам нужно быть союзницами. Жизнь коротка, и все мужчины — свиньи. Все без исключения. А теперь, дорогая, поговорим о другом. Посмотри, какое красивое платье. Боже мой, если бы у меня была твоя фигура, я купила бы себе это платье… И многое другое сделала бы, очень многое…
Она подозвала официантку и попросила счет.
— Сегодня плачу я. — Нинфа снова подмигнула.
В эту минуту Росалия ненавидела ее, она была готова сквозь землю провалиться.
В тот вечер Пабло Ортеге захотелось повидаться с Леонардо Грисом. Он позвонил из автомата.
— Как вы смотрите на то, чтобы нам пообедать вместе в одном из ресторанов Джорджтауна?
— Неплохое предложение, — ответил Грис. — А ты не боишься себя скомпрометировать?
— Вы это серьезно, профессор?
Пабло услышал теплый и душевный смех друга.
— У меня к вам один вопрос, хотя и не очень серьезный. Итак, в семь часов в «Кэрридж Хаус».
— Отлично!
Без пяти семь Пабло Ортега поставил свою машину на одной из улиц, пересекающих Висконсин-авеню, и направился в ресторан. Фасад «Кэрридж Хаус» с его деревянным портиком, выкрашенным в черный цвет и украшенным фонарями с коляски колониальных времен, почему-то напоминал Пабло морг.
Войдя в ресторан, Пабло не сразу отыскал друга. Леонардо Грис сидел за столиком в углу главного зал, который в этот час был полон.
— Слава богу! — воскликнул Пабло, усаживаясь. — Наконец-то есть с кем поговорить, отвести душу… Сегодня у меня отвратительный день — ужасно болит голова.
— Как прошла церемония?
— Гораздо лучше, чем можно было ожидать. Трудно поверить, но наш посол выглядел весьма импозантно. Он держался, как опытный дипломат.
— Ничего не скажешь, внешность у него для этой роли подходящая.
— Больше того, от него исходит какой-то магнетизм. У меня нет никаких сомнений: президенту Эйзенхауэру наш индеец понравился. И не удивительно. В жизни не встречал более обаятельного негодяя.
Когда покончили с коктейлями, Грис сказал:
— Я неспроста спросил, не боишься ли ты себя скомпрометировать. Что скажет Габриэль Элиодоро, если узнает, что ты поддерживаешь дружбу с таким ренегатом, как я?
— Очевидно, ему уже известно об этом.
Грис спокойно кивнул головой.
— Даже наверняка. Две последние недели какой-то неизвестный как тень следует за мной по пятам. Я его видел даже на университетской спортивной площадке. Когда я возвращаюсь домой, он едет за мной на синей машине. А когда я выглядываю из окна квартиры, он стоит на углу…
— Вы уверены, что это один и тот же человек?
— Абсолютно. Я убежден также, что немного погодя он появится в дверях этого зала, постаравшись, чтобы я его заметил. И то, что он старается мозолить мне глаза, наводит меня на мысль, что тот, кто его посылает следить за мной, видимо, хочет меня запугать.
— Если бы только это. Вам надо быть осторожнее. — Пабло жевал маслину. — А кто этот тип? Латиноамериканец?
— Нет. Высокий, статный блондин. Мне почему-то кажется, что он ирландец. Однако поговорим о более приятных вещах. Что будем есть? Я предлагаю лангуста по-ньюбергски.
— Превосходно.
— Вино?
— На ваш вкус. Но не забудьте, что я вас пригласил обедать…
— Поругаемся при расчете.
Пока профессор изучал карту вин, Пабло его разглядывал. В свои пятьдесят семь лет Леонардо Грис казался таким же сильным и энергичным, как и десять лет назад, когда преподавал литературу в федеральном университете Серро-Эрмосо. Он овдовел сорока с небольшим лет и так и не женился. У Гриса не было детей, и поэтому к своим студентам он питал отцовскую привязанность. Взгляд его глаз был на редкость выразительным: добрый и вместе с тем твердый, серьезный и веселый, полный веры и скептический. Гладкая кожа его смуглого лица еще сохранила упругость, а иссиня-черные брови красиво контрастировали с серебряной головой. На лекциях и докладах Грис умело пользовался своим низким и богатым интонациями голосом. «Этот человек, — думал Пабло, — один из очень немногих, в чьем присутствии я чувствую себя настолько свободно, что готов открыть душу, поделиться своими самыми сокровенными мыслями».
— Прошлой ночью, — сказал Грис, когда принесли еду, — мне снился странный сон. Будто на пустынной темной улице я встретил доктора Морено. Я поспешил к нему, хотел обнять, но он, заметив меня, ускорил шаг и жестами показал, что не желает со мной говорить. Я проснулся в тревоге. И, подумав, пришел к заключению, что сон мой вызван чувством вины перед доктором Морено.
— А почему вы должны чувствовать себя виноватым перед ним? Потому лишь, что он мертв, а вы живы?
Грис с сомнением пожал плечами.
— Если размышлять здраво, я не виноват… Ведь я хотел остаться с Морено, но он настоял, чтобы я бежал. И не только настоял — приказал.
Ярко-красный панцирь лангуста на тарелке Гриса напомнил вдруг Пабло его картину, которую он не мог кончить уже несколько месяцев.
— В ту ночь в мексиканском посольстве, — сказал он тихо, продолжая разглядывать лангуста, — нам не удалось поговорить как следует. После того, как вам было предоставлено политическое убежище, посол поместил вас в комнатах верхнего этажа, лишив возможности поддерживать связь с внешним миром… Признаюсь, не раз при наших встречах здесь, в Вашингтоне, мне хотелось поговорить об этом, но я не решался…
— Вот видишь! — рассмеялся Грис. — А все потому, что в глубине души ты согласен со мной: мне не следует слишком гордиться тем, что я остался жив в ту трагическую ночь.
— Ну, это вы зря, профессор! Просто мне не хотелось возвращаться снова к грустным воспоминаниям. Я могу совершенно откровенно сказать вам, что я об этом думаю. Изгнание не тяготит вас, ваше моральное и материальное состояние превосходны, ваши коллеги по университету и студенты восхищаются вами и уважают вас, вы пользуетесь относительным комфортом, ходите в библиотеку Конгресса, посещаете картинные галереи, концерты, интересные спектакли… А отвратительный (или прекрасный) призрак, притаившийся у вас в мозгу, оживает, едва мы засыпаем, чтобы прошептать нам на ухо обвинение, которого мы так боимся… Ведь согласно мифологической традиции к слову «изгнание» положено добавлять эпитет «горькое».