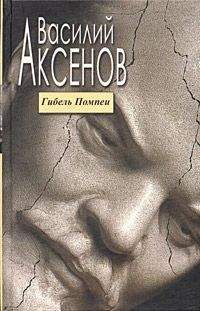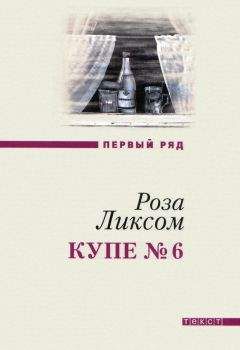4
– Что ты, Алина, ты с ума сошла или ты с ума сошла? Посмотри, сколько пришло знакомых, будет скандал, или ты скандала хочешь? Откажи ему теперь, сумасшедшая!
– Какой бес вселился в нее?
– Разошлась Алина!
– А, красавчик грузин!
– Не приглашай его хотя бы на дамский, подожди, позор, ей-богу! Шутки шутками, но зачем тебе это надо, дурацкие шутки, ведь это даже банально, не ходи, ты с ума сошла!
– Я встречал ее в Москве. Говорят – стерва.
– Брось, отличная девка и талантливая.
– Ее муж…
– Ты хочешь, чтобы я ушла? Я – уйду! Алинка, ну хватит, похохмили и довольно, нас зовут, может быть, ты хочешь?.. Знаешь, давай поговорим серьезно…
– Парень здесь увеселяет дам.
– Может, поговорить с ним по-мужски?
– Не связывайся. Налетят с ножами.
Алина с ума сошла и сняла уже очки, чтобы ничего отчетливо не видеть, чтобы все предметы чуть-чуть расплылись и даже его лицо, но пальцы ее тонкие точно ощущали весь рельеф спины молодого разбойника, услужливого Дон Жуана, и ноздри улавливали запах моря сквозь запах «Шипра», – уйдем, давай уйдем. Алина сошла с ума.
Волны молча шли в темноте, а потом шипящей белой лавой покрывали всю гальку и хлопались о парапет, и Алина с Гоги, стоящие у подножия парапета, были мокры с головы до ног.
– Что же делать, Гоги? – спросила она.
– Не знаю, – пробормотал он, дрожа, не выпуская ее из рук.
– Ты замерз, что ли?
– Не знаю, ничего не знаю.
– Подожди, подожди, ты мои очки разобьешь… Слушай, ты знаешь наш корпус, в ста метрах отсюда, над самым парапетом? Крайний балкон на втором этаже… Сможешь влезть?
– Конечно!
– Пусти, я побегу и буду тебя ждать.
По стене на второй этаж, какие пустяки, не так ли когда-то поднимался Тариель в доспехах и с оружием, а ему, мокрому и гладкому, как дельфин, гибкому, как обезьяна, сильному, как барс, влюбленному, как Тариель, по стене на второй этаж – это пустяки!
На балконе ему стало страшно. Он тронул дверь ногой, она скрипнула. Он замер, но дверь заскрипела еще сильнее и отворилась, а за ней в темноте стояла Алина, она была без платья, и тут ему стало так страшно, как никогда не было страшно в жизни.
– Иди, Гоги, – сдавленно прошептала она, – я Настю прогнала.
Он лежал, уткнувшись лицом в подушку, и одним глазом тайно наблюдал за ней. Она долго была неподвижной, потом зашевелилась, взяла с тумбочки сигарету, щелкнула зажигалкой, огонь осветил ее шею, подбородок, губы, чуть вислый кончик носа…
– Да-а, вот уж не ожидала, – вяло проговорила она и вяло помахала в темноте огоньком сигареты. – Сколько тебе лет? – спросила она, нагибаясь к нему.
– Восемнадцать, – прошептал он.
– Мда-а, – она засмеялась и погладила его по голове. – Это я над собой смеюсь. Хочешь закурить? – спросила она.
Он взял сигарету и сел на кровати.
– Первая сигарета, понимаешь, – сказал он.
– Ну и денек выдался, – ласково сказала она, – первая сигарета, первая женщина.
За панбархатом, за кисеей очень близко шумел прибой, как будто там шла тяжелая стирка.
– Иди, Георгий, вниз, – сказала она, – сейчас Настя придет. – Иди, – она поцеловала его, – не расстраивайся. Все еще впереди.
Он сполз по стене вниз и уселся на край парапета. Вдали в черноте стояло судно, очертаний его видно не было, только светились желтые огни, как будто стоял там стол со свечами, накрытый к ужину.
«Почему я должен расстраиваться, когда такое счастье, понимаешь», – думал Георгий.
На турбазе был вечер отдыха: шутили культурники-затейники, грохотал барабанный джаз, когда с четырех разных концов подошли к танцплощадке компания москвичей с Алиной в центре, Леван со своими друзьями, городская дружина во главе с Черчековым и одинокий Абрамашвили.
Георгий издали увидел Алину. Она была очень хороша, и он гордо подбоченился возле колонны и послал к ней гордый и счастливый свой взгляд.
– Нехорошо получается, Абрамашвили, – сказал, подходя, Черчеков, – опять ты не пришел в штаб. Как это понимать?
И снова удивленно поднялись его густые брови.
– Отстань, Авессалом Илларионович, – сказал Георгий, глядя на Алину, – отойди, дорогой.
– Хулиганишь, Абрамашвили? – удивился Черчеков и зафиксировал уже утвердительно: – Хулиганишь.
Компания Алины сильно разрослась за истекший день – кроме Насти, были уже здесь и другие женщины, а также появились крепко сколоченные мужчины лет 35, уверенно оттеснившие на задний план троицу легкомысленных молодых людей.
Алина наконец заметила Георгия и еле заметно кивнула ему, чуть нахмурилась и тут же отвернулась к мужчине, что стоял рядом, широко расставив ноги в голубых джинсах, расправив плечи в полосатой рубашке, подтянув начинающий тяжелеть живот.
Улыбку Алины и знак ее бровей Георгий воспринял как выражение общей тайны, близости, ласки.
На самом же деле Алина смеялась над собой и над ним, над своим дурацким приключением накануне неожиданного приезда мужа, смеялась, вспоминая неумелые мальчишеские ласки Георгия и подавляя невесть откуда взявшуюся горечь. Женщина она была неглупая и добрая, способная художница, в общем-то весьма рассудительная, но в их кругу почему-то за ней утвердилась слава неожиданной женщины, и она иногда выкидывала неожиданные номера, возьмет да уедет вдруг ни с того ни с сего в какой-нибудь город или вот сделает то, что вчера, но, впрочем, может быть, она действительно была неожиданной женщиной, как и все остальные, впрочем, женщины.
– Хелло, друг, – сказал, подходя, Леван, – посмотри, какую я заметил женщину. Великолепная женщина.
Он показал на Алину.
– Это моя женщина, – сказал Георгий, и от счастья и гордости все струны в нем натянулись и загудели. – Не смотри на нее, Леван. Любовь, понимаешь.
– Понятно, Гоги, – сказал Леван и скрестил руки на груди. – Друзья одной помадой губ не мажут.
Он был доволен, что высказал один из параграфов своего курортного рыцарского кодекса.
Георгий зашагал к Алине, чуть-чуть, вежливо взяв за талию, подвинул мужчину и поклонился ей.
– Ого! – сказал мужчина, взглянув на него. – Горный орел!
Алина танцевала ловко и красиво, но, конечно, не так, как тогда она танцевала. Георгий встревожился, глядя ей в очки и пытаясь уловить выражение глаз. Увы, очки отсвечивали, лишь иногда мелькали в них зрачки, но понять что-нибудь было невозможно.
– Алина, давай уйдем, – шепнул он, как она шептала ему тогда.
– Приехал мой муж, – усмехнулась она, – и поэтому… ты же понимаешь… и вообще не будем вспоминать и…
– Давай уйдем, – шепнул он, не вслушиваясь в ее слова, а только чувствуя течение речи.
– Я же говорю тебе, муж приехал, – с маленьким раздражением произнесла она, – мой законный муж, серьезный человек.
– Какой муж, что ты говоришь? – в ужасе и смятении забормотал он. – Глупости говоришь, дорогая…
Они танцевали в центре площадки, а вокруг бушевал вечер отдыха, и под крик и визг культурников танцующие очищали место действия то ли для бега в мешках, то ли для ловли призов с завязанными глазами. Они остались одни. Музыка смолкла. К ним уже бежали культурники, а Гоги все не отпускал Алину.
– Пусти немедленно, – зло прошептала она. – Мальчишка, дурак, пусти!
На шее у нее вздулись вены.
– Я твой муж! – закричал вдруг Георгий. – Я тебя увезу! Я тебя спрячу! Я не отдам…
Происходило что-то дикое и нелепое. Их окружили культурники, еще какие-то люди. Все кричали:
– Позор! Совсем обнаглели!
Какие-то лица мелькали перед Гоги: ощеренные лица Левана и его дружков, ее лицо без глаз, с огромными стеклами, деловые лица дружинников, возмущенные лица, ухмыляющиеся, тяжелое лицо того человека, ее мужа, его тяжелая рука…
Тут произошла вспышка, похожая на длинный кустистый разряд молнии, и рассеченное время стало плавиться, оползать, зрение Гоги застил красный туман – это его военная древняя кровь хлынула в мозг, он закричал что-то, чего и не знал никогда, и он не помнил потом, что он сделал, а опомнился через секунду уже в руках двух дружинников.
Из-за плеча Черчекова вспыхнул блиц – Гоги сфотографировали.
Потом его вывели за ворота турбазы.
По вечерам на парапете сидит старик горец, шамкает что-то и за пятнадцать копеек наливает желающим маджари из автомобильной канистры.
Знающие люди легонько толкают старика в плечо, подмигивают ему, словно он может в темноте увидеть это подмигивание, суют полтинники, и тогда он лезет в корзину, разворачивает тряпки, вытаскивает оплетенную бутыль и наливает знающему человеку добрый стакан чачи. Итак, в мальчишескую прекрасную жизнь Георгия бурно ворвалась первая женщина, первая сигарета, первый стакан водки.
Он долго плавал в темноте, пока не попал под луч прожектора. Тогда он выбрался на берег, натянул штаны и рубашку и заснул на остывшей уже гальке.
В сатирическом окне городской дружины, которое называлось «Солнечный удар», появилась фотография Гогиной головы, к которой пририсовано было извивающееся в безобразных конвульсиях тело. Текст гласил: «Девушкам строго воспрещается танцевать с местным хулиганом Георгием Абрамашвили, 1947 г. р.».