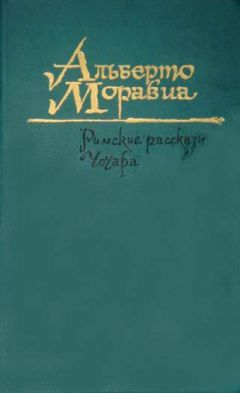Ну, хватит об этом. Коптилка разгорелась, и я увидела, что шалаш этот был настоящим хлевом, холодным и темным, с грязным полом; каменные стены и солома крыши были покрыты толстым слоем копоти. Затухающий очаг коптил, может потому, что дрова были сырыми; окон не было, и дым стоял в воздухе: выходил он из помещения очень медленно через соломенную крышу; за несколько минут пребывания в этом шалаше глаза у нас с Розеттой начали слезиться, а в горле запершило от дыма Я вдруг заметила что рядом со старухой, прячась под ее широкой юбкой, сидели уродливая дворняга и старый ободранный кот, и оба, хотя это и может показаться невозможным, плакали, бедняжки, как люди, от этого острого и едкого дыма, только плакали они, сидя неподвижно и глядя перед собой широко открытыми глазами, и было видно, что они привыкли сидеть так и плакать. Я всегда ненавидела грязь, квартира у меня в Риме хоть и б; яла очень скромной, но блестела, как зеркало Сердце у меня сжалось от мысли, что нам с Розеттой придется готовить пищу, есть и даже жить в этом шалаше, как будто мы не люди, а козы или овцы. Я невольно сказала продолжая думать вслух:
— Какое счастье, что нам жить здесь всего несколько дней, до прихода англичан.
На что Париде:
— Тебе что, не нравится шалаш? А я ему в ответ:
— У нас в деревне в таких шалашах держат скот. Париде был странным человеком, как я это заметила впоследствии, бесчувственным и не имеющим никакого самолюбия. Он ответил мне с какой-то странной улыбкой:
— А здесь живут люди.
Старуха скрипящим, как у сверчка, голосом добавила:
— Тебе не нравится наш шалаш? Все же здесь лучше, чем под открытым небом. Наши бедные солдаты, которых послали в Россию, — их жены живут здесь с нами, — согласились бы прожить всю жизнь в таком вот шалаше, лишь бы вернуться сюда. Но они не вернутся, их всех убьют и даже не похоронят, как христиан, потому что в России не признают больше ни Христа, ни мадонны.
Я удивилась мрачным предсказаниям старухи; Париде усмехнулся и сказал:
— Моя мать видит все в мрачном свете, потому что она старая, сидит здесь одна целый день, а к тому же она еще и глухая. Кто тебе сказал, что они не вернутся? — громко спросил он у матери: — Обязательно вернутся, и ждать их осталось уже недолго.
Старуха проворчала:
— И они не вернутся, и нас всех убьют здесь с самолетов.
Париде опять усмехнулся, как будто мать сказала что-то смешное, но меня испугало это мрачное карканье старухи, и я сказала поспешно:
— Мы еще увидимся, а пока до свидания. А она мне опять своим каркающим голосом:
— Мы еще увидимся и не раз, в Рим ты все равно вернешься не скоро, а может, и совсем не вернешься.
Париде расхохотался, а я подумала, что в этом нет ничего смешного, и произнесла в уме заклинания против наговора.
Конец дня я была занята приведением в порядок комнатки, в которой нам суждено было поселиться на долгое время, хотя тогда я этого еще не знала. Я подмела пол, соскоблила с кто многолетнюю грязь, собрала валявшиеся во всех углах тяпки и лопаты и отдала их Париде, чтобы он унес их в другое место, смела паутину со стен. Потом я перенесла кровать в угол, поставив ее около стенки мачеры, сдвинула вместе доски на железных козлах, встряхнула матрац из сухих кукурузных листьев, покрыла его простынями, очень красивыми, льняными, домашнего тканья и совсем свежими, а сверху постелила черный плащ Париде. Жена Париде, Луиза, блондинка с хитрым лицом, голубыми глазами и кудрявыми волосами, о которой я уже упоминала, уселась в глубине комнаты у станка и начала двигать его туда и обратно своими сильными и мускулистыми руками, производя при этом страшный шум, так что я ей сказала:
— Ты что, всегда будешь здесь так шуметь? На что она ответила, смеясь:
— Да. еще сколько времени мне придется здесь работать!.. Надо наткать материала, чтобы сшить штаны Париде и ребятам.
Я сказала:
— Вот беда, мы здесь совсем оглохнем. А она:
— Я же не оглохла… и ты привыкнешь.
Луиза просидела около станка часа два, двигая его все время взад и вперед с деревянным шумом, сухим и звонким; а мы обе, кончив с уборкой комнаты, уселись тут же: Розетта на стуле, взятом нами напрокат у Париде, а я на кровати; так мы сидели и, открыв рот, смотрели на Луизу, как две дурочки, и ничего не делали. Луиза была не слишком разговорчивой, но охотно отвечала на наши вопросы. Таким образом мы узнали, что из всех мужчин, живших здесь до войны, остался один Париде: его не взяли на войну, потому что у него не хватало двух пальцев на правой руке. Остальные мужчины были призваны и почти все были в России.
— Все женщины здесь, кроме меня, — сказала Луиза, двусмысленно, чуть ли не удовлетворенно улыбаясь, — уже все равно, что вдовы.
Я удивлялась, что и Луиза смотрит на все так же мрачно, как ее свекровь, и сказала:
— Почему ты думаешь, что все умрут? Я уверена, что они вернутся.
Но Луиза, улыбаясь, трясла головой:
— Ты меня не поняла. Я не верю, что они вернутся не потому, что их обязательно убьют, а потому, что русским женщинам нравятся наши мужчины. Всем нравятся иностранцы. Вполне возможно, что после войны эти женщины не отпустят их, и никто их больше никогда здесь не увидит.
Луиза смотрела на войну с точки зрения отношений между мужчинами и женщинами; казалось, она была очень довольна, что у ее мужа не хватало двух пальцев и он остался с ней, в то время как другие крестьянки потеряют своих мужей, которых отберут у них русские женщины. Разговор наш коснулся семьи Фесты, и Луиза сказала мне, что Филиппо удалось освободить сына от военной службы благодаря знакомствам и подкупам, а крестьяне, у которых не было ни денег, ни связей, должны были идти на войну и умирать там. Тут я вспомнила слова Филиппо, когда он говорил, что мир, по его мнению, состоит из дураков и умных, и я поняла, что и в данном случае Филиппо поступил умно.
Но вот, слава богу, наступила ночь, Луиза перестала двигать грохочущий станок и ушла готовить ужин. Мы с Розеттой так устали, что целый час продолжали сидеть неподвижно и безмолвно: я на кровати, а она на стуле около изголовья. Масляная коптилка еле мерцала, и при ее тусклом свете комнатушка казалась настоящей пещерой. Я смотрела на Розетту, Розетта на меня, и каждый раз наши взгляды сообщали что-то новое, мы не говорили — все выражалось в наших взглядах, слова были излишни, они не могли прибавить ничего к тому, что мы сообщали друг другу глазами. Глаза Розетты говорили: «Что мы будем делать, мама? Мне страшно. Куда мы с тобой попали?» — и тому подобное.
Мои глаза отвечали ей: «Золотая моя дочка, успокойся, твоя мама рядом с тобой, и тебе нечего бояться», — и так далее.
Так мы разговаривали без слов, пока наконец, как бы в заключение этого безмолвного разговора, Розетта придвинула стул к кровати, положила голову мне на колени и обняла мои ноги, а я все так же молча стала тихо-тихо гладить ее по голове. Мы сидели так, может быть, еще полчаса, потом дверь открылась, кто-то толкнул ее снаружи, и внизу показалась детская головка. Это был Донато — сынишка Париде.
— Папа зовет вас ужинать.
После обильного обеда, которым нас угостил Филиппо, нам совсем не хотелось есть, но я охотно приняла приглашение Париде, потому что грустные мысли обуревали меня и мне не хотелось сидеть целый вечер без ужина вдвоем с Розеттой в этой мрачной комнатушке.
Мы пошли вслед за Донато, бежавшим впереди нас, ориентируясь в темноте, как кошка, и вскоре оказались около шалаша на следующей мачере. В шалаше сидел Париде с четырьмя женщинами: там были его мать, жена, сестра и невестка. У сестры и у невестки было по трое детей у каждой, мужья их были на войне, их услали в Россию. Сестра Париде, которую звали Джачинта, была такая же смуглая, как брат, лицо широкое, с крупными чертами, глаза блестели, как у одержимой. Она казалась не совсем нормальной, голос у нее был резкий, и она все время ругала детей, цеплявшихся за нее, как щенки за суку, и непрерывно хныкавших, а иногда она их молча и с ожесточением била кулаком по голове. Невестку Париде, жену его брата, звали Анита, она жила до войны где-то возле Чистерны. Анита была худая и бледная брюнетка с орлиным носом и ясными глазами, смотревшими спокойно и задумчиво. По сравнению с Джачинтой, вид которой внушал страх, Анита производила впечатление тихой и кроткой женщины. Ее дети были тут же, но они не цеплялись за платье матери, а сидели молча на скамейках и терпеливо ждали ужина. Как только мы вошли, Париде сказал нам, улыбаясь своей странной улыбкой, одновременно застенчивой и хитрой:
— Мы подумали, что вы там сидите одни, и решили пригласить вас. — Он помолчал немного и прибавил: — Пока вы не получите свои запасы, можете столоваться с нами; потом мы с вами подсчитаем, сколько вы мне будете должны.
Этим он давал мне понять, что я должна буду платить за еду, но я была ему и за это благодарна, потому что знала, что он беден, а в голодное время даже за деньги было трудно получить продукты: у кого были запасы, тот держал их для себя и не хотел делиться с другими, даже если ему за это платили.